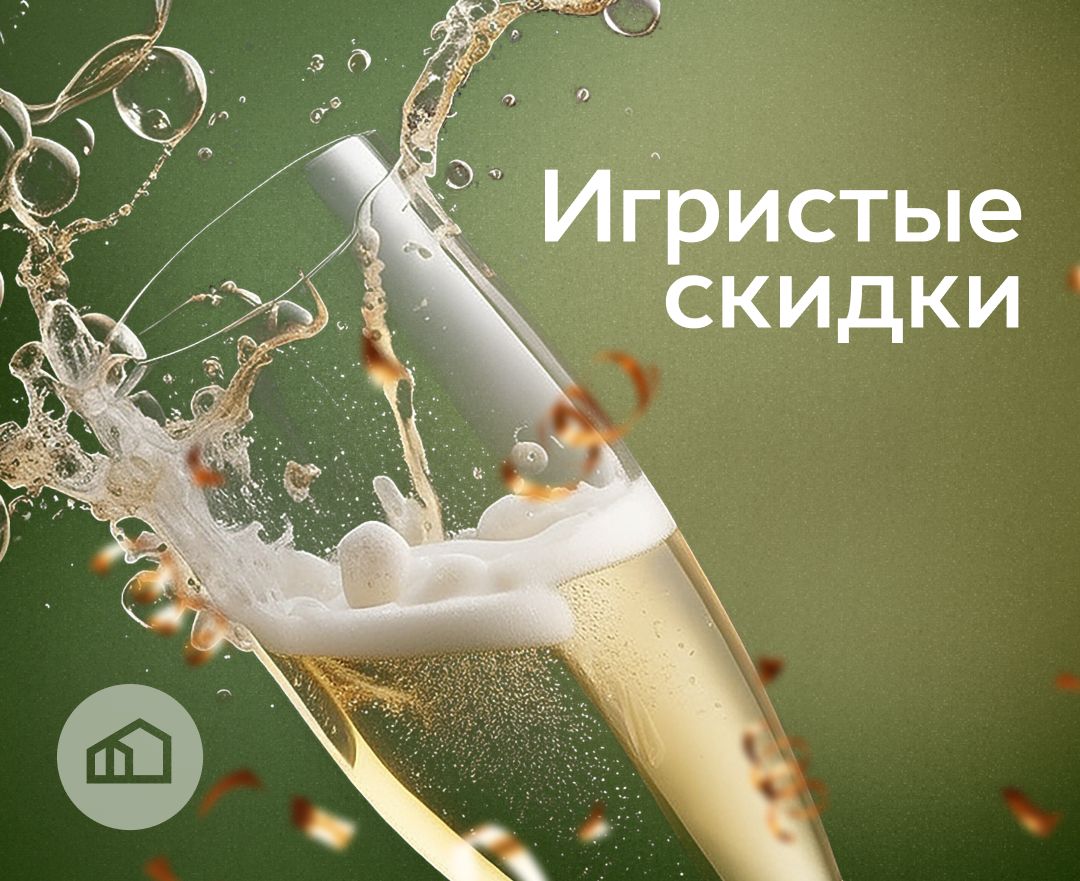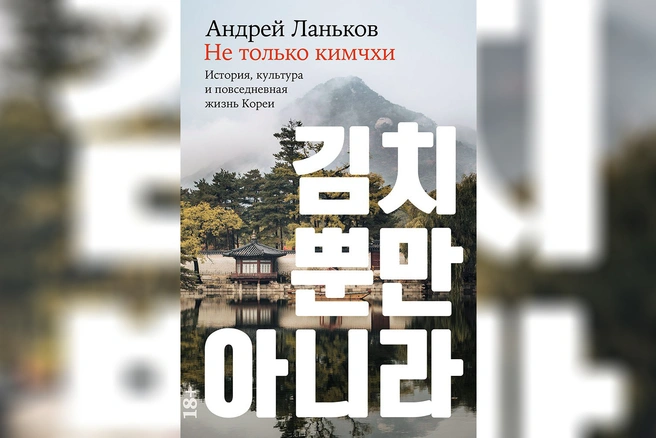
В мае в издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга самого авторитетного российского специалиста по истории Кореи Андрея Ланькова «Не только кимчхи. История, культура и повседневная жизнь Кореи». В издание вошли 54 очерка об этой стране, от древних связей с Китаем до наших дней: каждый очерк посвящен отдельному аспекту жизни страны. «Фонтанка» предлагает читателям ознакомиться с фрагментом, в котором речь идет о том, как во второй половине ХХ века граждан страны приучали слушать «правильную» музыку и не произносить некоторых слов.
Здоровая песня для здорового духа
1970-е годы — усилия военных правительств по борьбе с чуждыми влияниями и поддержке здоровых ценностей
«У южнокорейского руководства 1970-х гг. было немало поводов для беспокойства. Страна, конечно, тогда стремительно росла и богатела, темпы повышения уровня жизни били один мировой рекорд за другим. Однако у военных, которые уже почти два десятилетия правили страной, вызывали недовольство нездоровые, даже антинациональные веяния, распространявшиеся среди молодёжи. Правительственные чиновники считали, что молодые корейцы носят неправильную одежду (на их взгляд, женские юбки стали слишком уж короткими), поют неправильные песни и делают неправильные причёски (волосы у юношей казались солидным дядям в правительстве слишком уж длинными). Чиновники полагали, что долг государства — спасти наивных молодых людей от морального падения и, возможно, даже от скрытого коммунистического влияния.
Поиски заговоров и разоблачение тайных планов идеологических противников — вещь достаточно универсальная. В семидесятые годы в СССР многие руководящие товарищи среднего и старшего возраста искренне считали пристрастие юношей к длинным волосам результатом подрывной деятельности антикоммунистических сил. Любопытно, что в это же время их коллеги, правоконсервативные идеологи на Западе, наоборот, были уверены, что за длинноволосыми хиппи стоят зловещие кукловоды-манипуляторы из Москвы, логова всемирного коммунизма. В Южной Корее эти теории заговора, кажется, не получили особого распространения, но в любом случае в семидесятые и восьмидесятые годы южнокорейское правительство вело решительную борьбу с мини-юбками, гонялось за местными длинноволосыми хиппи и, разумеется, прилагало усилия к тому, чтобы направить популярную музыку в идеологически правильное русло.
Мини-юбки появились в Южной Корее в конце шестидесятых. Интересно, что обстоятельства появления этого наряда известны абсолютно точно: первой решилась надеть мини-юбку известная эстрадная певица Юн Пок-хи в 1967 году.
Хранителям основ новая одежда не понравилась, и они обрушились на зарвавшихся любительниц показывать ножки всей мощью государственного аппарата. В феврале 1973 года была введена в действие 41-я статья «Закона о мелких правонарушениях». Этот замечательный юридический документ запрещал ношение юбок, край которых был более чем на 20 см выше коленок. Нарушительниц ждал штраф в 30 000 вон (в те времена — немалая сумма, примерно равная средней месячной зарплате). На основании этого закона полицейские вылавливали самых вызывающе одетых модниц (или же, смею предположить, модниц с самыми красивыми ножками) и, линейкой измерив расстояние от коленок до края юбки правонарушительниц, штрафовали их.
«Закон о мелких правонарушениях» был пересмотрен в декабре 1988 года, и с того момента ношение мини-юбок в Корее было легализовано — точнее, оно было легализовано в южной части Корейского полуострова, так как на Севере, то есть в КНДР, кампании по борьбе с мини-юбками периодически происходят и в наши дни. Впрочем, как оно часто и бывает, формальная отмена запретов несколько отставала от правоохранительной практики: придя к власти в 1980 году, Чон Ду-хван несколько ослабил цензурные ограничения, не касавшиеся вопросов политики, так что гонения на мини-юбки фактически прекратились в начале восьмидесятых.
В семидесятые на улицах южнокорейских городов шла охота и на любителей длинных волос. Молодых людей, чьи волосы казались слишком длинными, задерживали и насильственно стригли прямо на месте. Такие сцены были достаточно обычными в 1976–1979‑х гг. на улице Тэханно, где в те времена (как, впрочем, и сейчас) любили собираться студенты.
В попытках воспитать молодое поколение надлежащим образом военное правительство обратилось к эстраде — точнее, попыталось взять эстраду под контроль, огородив её от вредных и, возможно, даже подрывных влияний. Надзор за музыкальной индустрией был возложен на Комитет по исполнительской этике, цензурный орган, неусыпно стоявший на страже общественной безопасности в борьбе с «коммунистической деятельностью», толкование которой было весьма широким, и с «аморальными идеями», понимаемыми ещё шире. Комитет должен был давать цензурное разрешение на тиражирование любых музыкальных записей. Он прекратил существование только в 1996 году.
На Комитет также возлагалась дополнительная задача: воспитывать таких артистов, которые могли бы служить народу образцами для подражания и популяризовать благопристойные, воодушевляющие песни. В семидесятые власти стали требовать, чтобы звукозаписывающие компании включали в выпускавшиеся пластинки или альбомы так называемые кончжон каё или, буквально, здоровые песни, призванные привить южнокорейской массовой аудитории позитивное мировоззрение и правильные идеи, то есть патриотизм, трудолюбие, честность и тому подобные добродетели. Собственно говоря, насаждением добродетелей путём поощрения правильной поп-музыки власти Южной Кореи впервые занялись ещё в конце 1950‑х гг., но по-настоящему эта деятельность развернулась в 1970-е гг., когда система Пак Чон-хи из умеренного авторитарного режима стала превращаться в откровенную диктатуру.
Едва ли не самая известная из таких «идейно здоровых песен» называлась «О, Республика Корея!» Она превозносила Южную Корею как живое воплощение идей рыночной экономики и политической демократии (первое было в целом правдой, второе — в целом нет). Подобных музыкальных произведений было много — на 1972 год в списке «здоровых песен» насчитывалось более сотни наименований, а в последующие годы их количество выросло ещё больше.
Другая известная «здоровая песня» исполнялась от лица рыночной торговки, идущей в собственную лавку. Название у песни было соответствующее — «По дороге на рынок», а её текст призывал быть добросовестным и жизнерадостным в общении с покупателями: «Мы будем продавать с улыбкой товары без изъяна и будем покупать, веря чувствам людей». В течение всего одной минуты 25 секунд (песня была короткой) слушатели должны были наслаждаться содержанием краткого курса деловой этики, который был напет, надо признать, очень приятным голосом Хе Ын-и, едва ли не самой популярной певицы южнокорейской эстрады семидесятых.
Под давлением властей распространением «здоровых песен» занимались всерьёз. В 1974 году Министерство транспорта потребовало, чтобы во всех автобусах звучала идейно правильная музыка, то есть «здоровые песни». Как уже упоминалось, также требовалось включать по одной такой песне в любую долгоиграющую пластинку (потом — в магнитный альбом), которые выходили в Корее в те годы. Формально производителей музыкальных записей никто не принуждал, но на практике все понимали, что без соответствующей песни новый альбом едва ли пройдёт цензуру, которой занимался Комитет по исполнительской этике. Продюсеры были не очень довольны, потому что «здоровые песни» предсказуемо не пользовались популярностью и их включение в альбомы негативно отражалось на продажах.
В 1960–1970-х гг. правительство исходило из предположения о том, что общественные нравы можно улучшить, заставляя людей слушать правильные песни. Предположение это, скорее всего, было наивным, хотя на сто процентов утверждать что-либо тут трудно. В отличие от большинства критиков южнокорейского руководства того времени, я не вполне уверен, что оно заблуждалось в своём воспитательном оптимизме. Не исключено, что благодаря ежедневному прослушиванию торговками песни «По дороге на рынок» уровень обмана покупателей действительно снизился, скажем, на 0,1%. С другой стороны, очевидно, что морализаторские песни, звучавшие в восьмидесятые годы, как тогда по похожему поводу говорили в СССР, «из каждого утюга», всё больше и больше раздражали южнокорейскую публику.
Комитет по исполнительской этике не ограничивался пропагандой идейно правильной поп-музыки. Его функционеры также пытались уберечь публику от того, что их коллеги в Северной Корее, вероятно, назвали бы «проникновением уродливой космополитической идеологии». Комитет официально запретил ряд песен, которые были сочтены «слишком японскими» по стилю и духу. Ирония заключается в том, что японская поп-музыка всегда оказывала очень сильное влияние на корейскую эстраду. В некотором смысле едва ли не все корейские эстрадные песни шестидесятых и семидесятых можно было считать подражанием японским образцам (в некоторых случаях копировались не только мелодии и стиль, но и костюмы и даже названия групп). Таким образом, Комитету приходилось действовать весьма выборочно, ведь при желании японские влияния можно было найти почти в любой песне.
Одним из запрещённых хитов была «Девушка-камелия» в исполнении Ли Ми-чжа, ещё одной сверхпопулярной эстрадной певицы той эпохи. Долгое время песню эту нельзя было ни исполнять публично, ни транслировать в эфире, так как в ней было обнаружено «японское влияние». Любопытно, кстати, что в 1979 году, во время переговоров с высокопоставленной японской делегацией, президент Пак Чон-хи пригласил Ли Ми-чжа выступить на закрытом концерте в Голубом Доме — очевидно, что он просто не знал, что Ли Ми-чжа попала в опалу и что её главный хит был под запретом. Сам Пак Чон-хи, кстати, часто напевал запрещённую «Девушку-камелию». Существовал и список запрещённых слов и выражений, которые нельзя было использовать в текстах популярных песен. Некоторые из них были непристойными, то есть имели сексуальный подтекст, в то время как у других имелся скрытый политический смысл: выражения эти намекали на термины и фразы из жаргона радикальных левых.
Пострадала от этой кампании и Юн Пок-хи, та самая певица, которая в 1967 году впервые появилась на публике в мини-юбке: одно время власти запрещали её выступления, так как считали, что она слишком вольно ведёт себя на сцене.
В наши дни эпоха «здоровых песен», охоты на мини-юбки и государственной цензуры вспоминается с иронией даже теми корейцами, которые в целом положительно относятся к противоречивому наследию 1970-х гг. Левые интеллектуалы, то есть большинство образованных корейцев моложе 55 лет, чаще всего и поныне воспринимают эти песни с отвращением, видя в них символ непрошеного вмешательства государства в творческую и личную жизнь. Впрочем, упомянутая выше Юн Пок-хи в последние годы стала заметной фигурой в корейской уличной политике и часто появляется на демонстрациях, участники которых требуют защитить наследство Пак Чон-хи от клеветы, которую возводит на него левонационалистическое правительство Мун Чжэ-ина. Времена меняются, и взгляды людей — тоже…
В начале семидесятых корейскую оппозиционную интеллигенцию раздражала не только цензура: им казалось, что всё в стране идёт не так. Среди инцидентов, о которых часто упоминали противники Пак Чон-хи, немалую роль играла и трагедия, случившаяся в апреле 1970 года, — обвал жилого комплекса «Вау». Об этом событии, а также о неудачной попытке запустить программу дешёвого социального жилья мы поговорим в следующей главе».
Публикуется с любезного разрешения издательства «Альпина нон-фикшн».
Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».