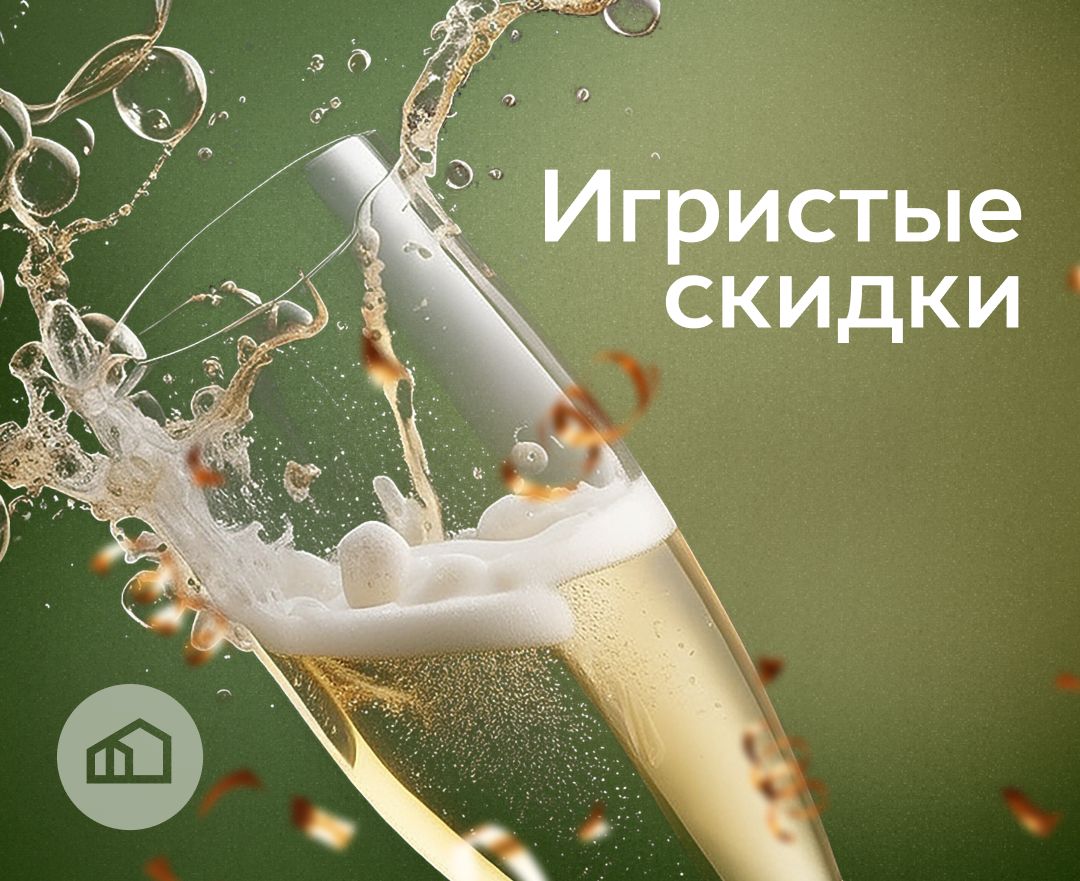Кто остаётся в осаждённом Алеппо, зачем нужна реабилитация исламистов, какой способ борьбы с радикалами эффективнее бомбёжек – на эти и другие вопросы «Фонтанке» ответил востоковед Василий Кузнецов.
На Ближнем Востоке, где сейчас сконцентрированы революции и войны, террористы и интересы великих держав, побывал руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, директор Центра политических систем и культур факультета мировой политики МГУ Василий Кузнецов. Впечатлениями он поделился с «Фонтанкой».
Два Алеппо
- Василий, сколько народу остаётся сейчас в осаждённом Алеппо?
– Считается, что на территориях, подконтрольных Асаду, находятся примерно 70-80 процентов тех, кто остался в Сирии. Население Сирии на момент начала боевых действий превышало 22 миллиона человек. Дальше все цифры достаточно условные, но можно понять порядок величин. Миллион с чем-то человек – беженцы в Ливане. Больше миллиона в Турции. Официально 650 тысяч, а неофициально – тоже больше миллиона, в Иордании. В целом получается где-то 4 миллиона человек. Плюс – неизвестное количество в Ираке, сколько точно – нельзя сказать, но это несколько сотен тысяч человек. Порядка 150 тысяч официально находятся в Египте. Саудовская Аравия говорит, что на её территории находятся 2 миллиона сирийских беженцев…
- Я не знала, что Саудовская Аравия принимает беженцев.
– Эти данные вызвали несколько ироническую реакцию, но здесь речь идёт, скорее, не о беженцах, а о сирийцах, которые работали в Саудовской Аравии до войны. В любом случае, это люди, которым сейчас некуда возвращаться. Плюс есть Европа, на территории которой находится около миллиона. Повторю, что данные все условные. И понятно, что разные правительства играют с этими цифрами, есть определённые спекуляции – чисто политические. Но вполне допустимо говорить о шести миллионах беженцев за пределами Сирии. В принципе, такая вилка подтверждается и европейскими аналитиками, говорящими о 4,8 миллиона беженцев в Турции, Ливане, Иордании, Египте и Ираке и о миллионе с чем-то в Европе, и сирийским правительством. Обычно говорят, что погибло в Сирии больше трёхсот тысяч человек, некоторые авторы называют большие цифры. И вот 15 с половиной миллионов – из них примерно 12 миллионов живут на территориях, подконтрольных правительству. Внутренне перемещенные лица – это ещё одна, не так часто упоминаемая, проблема. А их, между тем, больше шести миллионов человек.
- По площади Асаду подконтрольна примерно четверть страны.
– Но это большая часть «полезной Сирии». Когда вы говорите об этой стране, арифметический подход не очень работает, потому что огромная часть – пустыня. И «полезная Сирия» – это примерно треть страны: Латакия, Дамаск, побережье. Поэтому когда говорят об огромных территориях «Исламского государства» (запрещено в РФ. – Прим. ред.), их в реальности не имеет смысла принимать в расчёт. Их часто никто не контролирует, их и невозможно контролировать, там ничего нет.
- Так сколько народу из этих 15 миллионов находится в Алеппо? Кто эти люди?
– Сейчас Алеппо расколот. Западная часть контролируется правительством, и там – более миллиона человек. В восточном триста тысяч – по одним оценкам, четыреста – по другим. И там население делится на много частей. По кварталам, которые контролируются различными группами, иногда "Джабхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ. – Прим. ред.), иногда другими оппозиционными силами, а подчас – просто ОПГ.
- Россию обвиняют в бомбёжках мирного населения в восточной части Алеппо. Там есть население, которое можно назвать мирным?
– Это гражданская война. Кого мы будем считать мирным населением? Это первая проблема. И как отделять? Мирные – направо, немирные – налево? Террористические группы всегда используют живой щит – это же ясно. Второе – это война в городских условиях, и с этим ничего не сделаешь. Третье – в ситуации боевых действий существует дефицит достоверных сведений. И понятно, что все стороны конфликта, включая глобальных игроков – и нас, и американцев, – используют ситуацию в пропагандистских целях. Проверить, что здесь правда, разбомбили госпиталь или не разбомбили, нельзя. Все доказательства относительны. Впрочем, сегодня созданы гуманитарные коридоры, которые в принципе должны помочь мирному населению. Другой вопрос, что это население, жившее на подконтрольных противникам режима территориях, может испытывать страх перед правительственными силами.
- В газетах трёхлетней давности можно увидеть, что уже в 2013-м Алеппо был разрушен. Почему это место до сих пор имеет такое значение?
– В Сирии всегда, с древних времён, было два главных города. Последние десятилетия Дамаск был политической столицей, Алеппо – экономической. В Алеппо сходится много торговых путей. Если вы посмотрите на карту, то увидите: на восток, в Ирак, идёт дорога. Если вы контролируете Алеппо – вы контролируете доступ ко всем восточным провинциям страны, равно как и к северным её границам – к территориям расселения курдов и к границе с Турцией. То есть стратегически это очень важный пункт.
- Как он оказался в руках у оппозиции?
– В Алеппо всегда были сильны протестные настроения. Люди, приезжавшие в город ещё в середине 2000-х, рассказывали, что там очень высокий уровень исламизма. Это город более традиционный. Это важный момент: в таких странах, как Сирия, Тунис, Египет, демонстрация религиозной идентичности была не только религиозным жестом, но и жестом политическим. Демонстрацией недовольства властью.
- Власть-то во многих странах арабского Востока была подчёркнуто светской.
– Это не совсем так. Правительства этих стран никогда не отрицали важность религии. А в 2000-е годы, когда исламисты монополизировали протестное поле, власти стали особенно тщательно подчеркивать свою приверженность религиозным ценностям, свою богобоязненность. Только это мало помогало. В Египте во времена Мубарака, в Тунисе во времена Бен Али женщины, например, надевали хиджаб зачастую не потому, что они были исламистками, а чтобы продемонстрировать недовольство. И в Алеппо, вероятно, это тоже было косвенным признаком протестности. Второй момент – это то, о чём в России почему-то вообще редко говорят: важнейшая причина сирийского конфликта – социально-экономическая.
- Засуха 2009 года, неурожай, голод?
– Поэтому крестьяне начали стягиваться в города. И прежде всего, речь шла об Алеппо.
- Потому что крестьяне – сунниты, они и тянулись к более традиционному городу?
– Не надо преувеличивать конфессиональный фактор. Они тянулись просто в большой город. На заработки. А куда ещё? Дальше на восток – засушливая местность, полупустыня, потом пустыня. Больше ехать было некуда.
- Но когда этим крестьянам объясняли, кто виноват в их бедах, конфессиональный фактор как раз пригодился, потому что им говорили: это всё алавит Асад с его либеральными реформами, из-за которых богатели города и нищала деревня.
– Такая проблема тоже есть. Но она универсальна для всех стран региона. В 2000-е годы все они в той или иной степени принимали неолиберальные рецепты экономических реформ. Сирия как раз – в меньшей степени. А одно из следствий такого рода реформ – всегда рост социального расслоения. И рост городского населения был во всех странах региона. Асад, конечно, сделал много ошибок, но так было везде, и Сирия в этом плане не худший пример. И проблемы у крестьян были везде. Хотя Асад, с его биографией, с его достаточно широкими взглядами, видимо, действительно хотел стать президентом-реформатором. Но были внутрисистемные ограничители. Сейчас не буду говорить об этом подробно, но он не смог сделать то, что хотел. И это привело к тому, к чему привело.
- Получается, в Алеппо сконцентрировались недовольные крестьяне и исламисты, объяснявшие им, почему живётся плохо?
– В городе создался довольно высокий уровень недовольства. На протяжении всей гражданской войны, после 2012 года, Алеппо оставался очень важным центром оппозиции. Хотя сама оппозиция в Сирии очень раздроблена – это общая проблема конфликта, от которой уйти так и не удалось. И в Алеппо были самые разные группы оппозиции – джихадистские, курдские и все прочие.
- Как информация из Алеппо доходит до Дамаска и Латакии?
– Если речь идет о восточном Алеппо, то это затруднительно. Если о западном – он прочно связан со столицей, и правительство постоянно подчеркивает, что в западном Алеппо все хорошо. Скажем, недавно в столице прошла выставка товаров, произведённых в Алеппо.
- Кого винят сирийцы в бомбёжках и гибели близких?
– Исламистов, оппозицию.
- Не тех, кто бомбит?
– Одни бомбят – другие убивают людей на земле… Режим достаточно жёсткий, это мы с вами хорошо понимаем. Тем более в условиях военных действий. Но если брать в целом население Дамаска – оно поддерживает правительство. И Россию тоже. Никаких серьёзных антиправительственных движений ни в Дамаске, ни в Латакии нет. Правительство оказалось достаточно эффективным, чтобы эти территории контролировать. И люди воспринимают это как выбор: либо жёсткий режим – либо война. И они благодарны этому режиму.
О реабилитации боевиков
- Как в этих странах относятся к людям, уехавшим воевать за ИГИЛ?
– Это сложный вопрос. С одной стороны, люди, которые там воюют, это бандиты и убийцы. С другой стороны, в жилых кварталах я слышал истории о молодых людях, уехавших в ИГИЛ: о них говорят, скорее, с жалостью, с сочувствием. Как правило, находят оправдание в невыносимых условиях жизни на родине. Эти невыносимые условия связаны не столько с бедностью, сколько с отсутствием перспектив дома. Во всех историях есть повторяющийся, как в фольклоре, мотив: унижения со стороны государства.
- Это ведь то самое, из-за чего началось «домино» всей «арабской весны»?
– Получается, что так. И это очень важно. Потому что одним из лозунгов «арабской весны» было «аль-карам аль-ватания» – национальное достоинство.
- Люди осознают, что ИГИЛ пополняется по тем же причинам, по которым случилась «арабская весна»?
– В каком-то смысле, те, кто уехал в ИГИЛ, это такие «сироты «арабской весны». Это люди, которые ожидали перемен, но не дождались. Понятно, что речь сейчас идёт не о просвещённом классе, некоторые представители которого тоже присоединяются к ИГИЛ. Я говорю о массе простых людей из народных кварталов. Хотя существует и так называемая философская интоксикация. Вы, может быть, знаете, что, по статистике, среди террористов больше выпускников инженерно-технических факультетов.
- Нет, я только читала, что среди них много людей с высшим образованием.
– Гуманитариев почти нет, а вот с инженерно-техническим образованием – очень много. И с медицинским. Это по общемировой статистике, связанной не только с ИГИЛ.
- Потому что инженерные и врачебные навыки более востребованы?
– Это только одно объяснение. Другое связано со спецификой профессионального сознания и мировосприятия: считается, что люди с техническим образованием более склонны к простой, алгоритмичной логике. Они часто не допускают многовариативность истины.
- Чаще ищут простые ответы на трудные вопросы?
– В каком-то смысле. Не знаю, есть ли такие исследования в России. Но есть, например, теория, по которой техническая интеллигенция более, чем гуманитарная, склонна оправдывать сталинизм эффективностью менеджмента. Впрочем, справедливости ради, диссидентское движение в СССР тоже в значительной степени формировалось технической интеллигенцией. Сахаров, Солженицын – физик и учитель физики.
- «Технари», наверное, чаще считают, что между двумя точками надо двигаться по кратчайшему расстоянию – по прямой?
– Можно и так сказать. Посмотрите труды наших новоявленных востоковедов – вроде господина Багдасарова. Вам очень быстро объясняют, что и как надо сделать с ИГИЛ. Для всего есть простые решения: этих поддержать, тех разогнать и так далее. И если вернуться к боевикам, к причинам их присоединения к ИГИЛ, то здесь тоже есть поиск примитивного ответа на сложные социальные вопросы. И отношение к ним, соответственно, очень разное.
- Сейчас много говорят о бомбардировках российской авиации, из-за которой боевики бегут. Часть бежит домой – в соседние страны. Как их там принимают?
– Кто-то бежит, а кто-то и ехал в ИГИЛ, не собираясь становиться убийцей и террористом. Потом посмотрел, разочаровался и вернулся. По поводу того, что делать с этими людьми, возникает дискуссия: какова моральная ответственность общества и государства за этих людей. Это, конечно, зависит от степени развития гражданского общества. В Тунисе, например, такой вопрос ставится достаточно открыто. В Саудовской Аравии он не ставится вообще.
- А в чём, собственно, вопрос?
– Подход первый: уехали – и скатертью дорога, у нас угроза уменьшилась, а лучше, если там их и пристрелят. Согласно этому подходу, сам отъезд рассматривается как добровольный отказ от гражданства, что снимает с общества и государства всякую ответственность. Подход второй: да, уехали, очень плохо, и если они совершили преступление – надо с ними бороться; тем не менее, они – наши граждане, мы должны их возвращать, адаптировать, реабилитировать, с ними должны работать соответствующие службы – социальные, психологические…
- Простите, это точно о террористах?
– Нет, ну, понятно, что люди не настолько наивны. В первую очередь, должны работать силовые структуры, чтобы минимизировать угрозу. Но и остальные службы тоже.
- В каких странах Востока преобладает второй подход?
– Если честно, чтобы прямо преобладал – кроме Туниса, мне некого назвать. Но и в других странах об этом говорят в разных слоях населения. Хотя в большинстве, конечно, доминирует страх.
- Эти страны небогаты, многие разрушены революциями и войной. Там готовы к таким расходам, не очень понятным по результату?
– Всё-таки это вопрос не массовый. Речь идёт о нескольких тысячах человек. Понятно, что всё равно все не вернутся. В Тунисе вернулись 700 человек. Кто-то из них сидит в тюрьмах. Кто-то не сидит, но находится под постоянным наблюдением полиции. В каждом случае вопрос рассматривается очень индивидуально. Есть неправительственная организация, которая занимается реабилитацией вернувшихся – RATTA. Она создана родственниками тех, кто уехал в ИГИЛ. Её деятельность тоже вызывает разные оценки. Некоторые считают, что её работа – безобразие и сплошное оправдание терроризма. Но есть формула, которую разделяют многие тунисские чиновники: когда мы имеем дело с терактом, то жертв, в сущности, две – собственно жертва и террорист, который стал террористом из-за несправедливости общества и собственных ментальных проблем.
- А как в Тунисе делят вернувшихся на тех, кого надо в тюрьму – и тех, за кем можно просто наблюдать? Откуда информация о том, что они натворили в ИГИЛ?
– Это действительно сложно. Тут первый критерий – сколько времени человек там провёл. Если воевал три года – это один случай, если месяц – совсем другой. А дальше – есть спецслужбы, которые выясняют детали. Понятно, что абсолютно достоверной информации всё равно не получишь. Но – до какой-то степени.
- Тунис пережил много терактов, они не боятся, что эти вернувшиеся…
– Боятся, конечно. Это действительно очень рискованный ход. И это подход очень западный. Не факт, что в Тунисе он сработает.
- Эти семьсот вернувшихся в Тунис – из какого числа уехавших?
– Уехавших примерно в десять раз больше. Но всё-таки не надо искать в подходе эффективность – она не всегда совпадает с нашими представлениями о морали. Эффективнее всего закрыть границу и никого не пускать обратно.
Об идеологии
- Какие условия можно создать для возвращения хотя бы какой-то части боевиков?
– Нужны реформы административной, политической систем, но их не провести ни за день, ни за месяц, ни за год. Второе – реформы болезненны, и не везде существует ресурс для их проведения. А если в процессе реформирования система просто рухнет? Третье – для отъезда в ИГИЛ были социально-экономические предпосылки. И здесь что-то изменить ещё сложнее. Поскольку речь обычно идёт о молодых людях, существует блок вопросов, связанных с социализацией молодёжи, её экономической интеграцией, и решать их сложно. И в Египте, и в Тунисе в бедных кварталах появились службы, которые должны помогать начать собственный бизнес. И тому подобное.
- И что, люди в бедных кварталах прямо начнут свой бизнес?
– Трудно сказать, насколько это будет действенно в совсем бедных кварталах, где действует так называемая «экономика бедности». Но в средних – да, вполне возможен такой «стартап-менеджмент». Микрокредитование и подобные инструменты. Этим занимаются и в Иордании, и, насколько я знаю, пытаются это делать в Марокко. Эффективность этой работы разная, я не готов её оценивать. Но попытки уже есть. Ещё один момент – это то, что надо было, видимо, делать давно. Это вопрос социальной инфраструктуры. Школ, досуговых центров, культурных центров для молодёжи. Нужно сделать так, чтобы молодым людям было где проводить время и чем заниматься. Кажется, что это так, ерунда. На самом деле, это очень существенно. Если у вас на 100 тысяч жителей две школы, а такие районы есть, то это грозит проблемами.
- Что мешает делать всё это не только в названных вами странах?
– Деньги нужны колоссальные. И нужна инфраструктура, которая будет эти деньги распределять. А не воровать, например. Что в этом регионе тоже непросто. Есть проблема коррупции, которая никуда не ушла. То есть мы сейчас с вами говорим о коренной перестройке социальной политики на Ближнем Востоке.
- Мы говорим о «плане Маршалла» для Ближнего Востока.
– Да. И понятно, что никто не будет его осуществлять. Кроме того, страны Запада, как правило, выдвигают очень много политических условий, когда оказывают помощь. Я не говорю, что их не надо выдвигать вообще. Но очень часто международные институты действуют по стандартной схеме и совершенно не учитывают местную специфику. Существует некая универсальная модель. Накладываешь её на Чили – получается один эффект. Накладываешь на Египет – совсем другой. Если вы не учитываете наличие архаичных и традиционных социальных структур, специфику общества, то многие вещи работать не будут. Они и не работают. Универсальных решений тут не существует.
Беседовала Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»