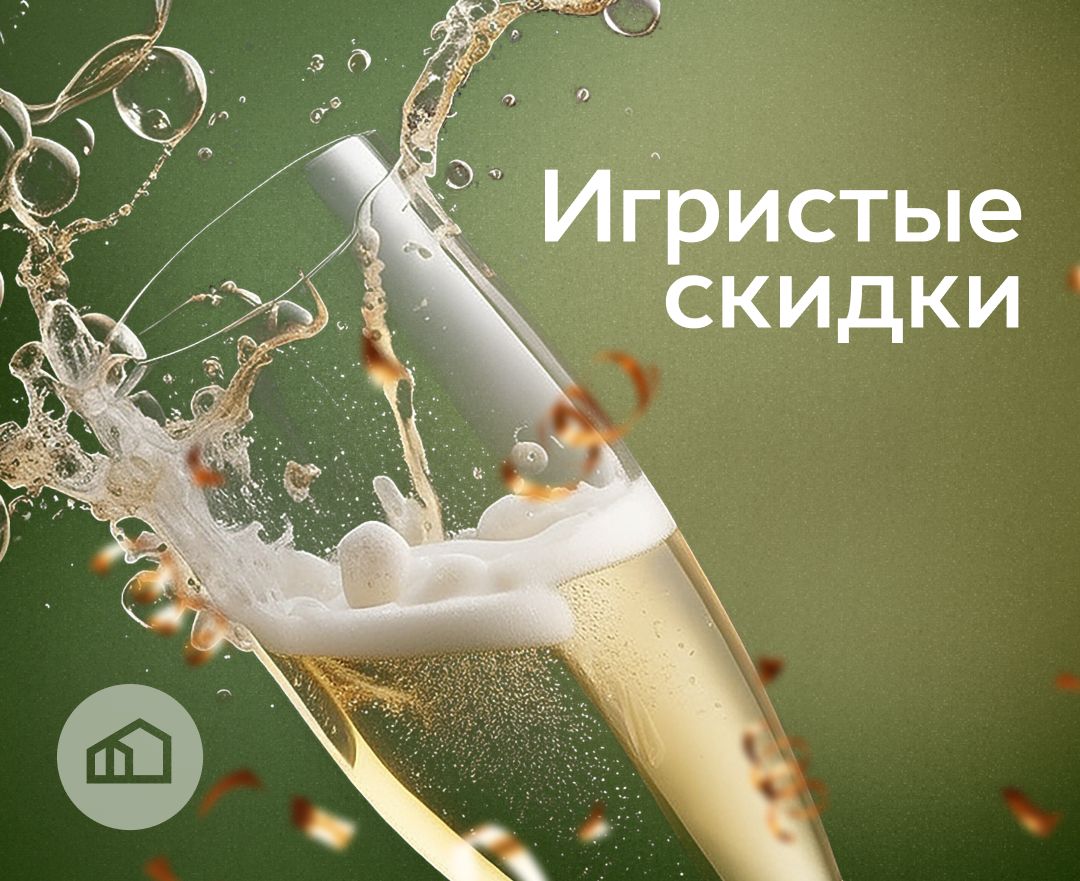Двухтомный «Дневник» Любови Шапориной (1879-1967) – свидетельство во всей своей недостоверности уникальное. Как отмечают все пишущие об этой книге, Шапорина (художница, переводчица и режиссер кукольного театра, супруга так никогда формально и не разведшегося с ней знаменитого композитора Юрия Шапорина) вела тщательный, подробный – и, да, бесстрашный! – дневник в те годы и десятилетия, когда сажали, а бывало, и расстреливали куда за меньшее.
Долгое время прожила Шапорина перед первой мировой за границей. Провела в Петрограде все годы гражданской войны, вновь выехала за рубеж, вернулась по просьбе легкомысленного и уже неверного мужа (который был моложе ее на восемь лет) на родину. Создала и утратила один, а за ним другой и третий кукольные театры. Потеряла любимую дочь, нехотя взяла на воспитание внуков от нелюбимого сына, а в годы Большого Террора практически удочерила двух девочек из семьи репрессированного литературного начальника. Пережила блокаду, чуть ли не нищенствовала после войны (да и всю жизнь фактически тоже), мучительно считая каждую копейку. Переводила с пяти языков, подбирая крошки со стола у воротил из Союза писателей. Дружила со знаменитостями (с А.Н.Толстым, с А.П.Остроумовой-Лебедевой, с А.А.Ахматовой), особенно в периоды их временной или постоянной опалы. Лет до восьмидесяти не пропускала ни одного концерта в филармонии и ни одной премьеры в музыкальном театре. Сумела даже на склоне дней еще раз съездить за границу – повидаться с братом-белогвардейцем, из-за самого существования которого «ждала гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных», едва ли не каждую долгую ночь («в черном бархате советской ночи, в бархате всемирной пустоты»)…

Мандельштама, которого я здесь уже не в первый раз цитирую, впрочем, не любила; да и вообще евреев не жаловала (кроме отдельных «хороших людей»), а их искусства (кроме «Еврейских песен» отнюдь не бывшего евреем Шостаковича) – тем более; жаловалась на еврейское засилье и в музыкальной среде, и в переводческой, и в научной; однако и будучи убежденной антисемиткой, не была погромщицей – ни реальной, ни потенциальной. «Дочь степной небогатой помещицы» (а это уже Пастернак), она была патриоткой одновременно и великоросского, и великодержавного (имперского) склада, многое прощала большевикам (но не Сталину) за победу в Великой Отечественной и за «приращение» страны отнюдь не только Сибирью; считала жизненно необходимой прививку к российской лозе германо-фашистского дичка и водружение красного знамени не только над рейхстагом, но и на воротах Царьграда. То есть политические взгляды Шапориной следует назвать протофашистскими или криптофашистскими.
Еще раз подчеркну и напомню: в советское время (особенно при Сталине) преследовали не за какие-то конкретные политические взгляды, а за «отклонение от линии Партии» - отклонение от линии, которая и сама по себе колебалась чуть ли не по Оруэллу. Моя мать-адвокат защищала в городском суде человека, в 1939 году вставшего на партсобрании по поводу пресловутого пакта и сказавшего: пакт пактом, а с Германией нам все равно придется воевать. Этому человеку дали 10 лет, и моя мать подала кассационную жалобу в Верховный суд РСФСР в Москву. Верховный суд рассмотрел жалобу 27 июня 1941 года – и оставил приговор в силе! Какой уж тут криптофашизм…
То есть Шапорину неминуемо ожидали бы ссылка, лагеря, а то и «десять лет без права переписки», попадись на глаза «органам» не только ее непочтительные суждения о вожде (или о евреях), но и модная и сегодня мысль о том, что России неизменно «гадит англичанка». Она могла пострадать за религиозность (естественно, православие), за происхождение (из дворян), за принадлежность к творческой интеллигенции, - за всё это и за многое другое. Любовь Шапорина десятилетиями шла по жизни по «наиболее опасной при артобстреле стороне». И, наверное, неслучайно, как раз в годы блокады со всеми ее ужасами Шапорина чувствовала себя (не физически, но морально) лучше, чем когда бы то ни было. Хотя, записывала она в тетрадь, репрессии, причем заведомо ошибочные репрессии, ни на день не прекращаются и в осажденном Ленинграде.
Несчастливая в браке и фактически не имевшая личной жизни, Шапорина сублимировала свои чувства в любви к музыке, изящной словесности и живописи и в обожании трех великих, как ей казалось, женщин – пианистки Марины Юдиной, художницы Анны Остроумовой-Лебедевой и поэтессы Анны Ахматовой. Любопытно, что при первой – сразу по возвращении Ахматовой из Ташкента – встрече в блокадном Ленинграде Шапорина испытывает к ней чуть ли не презрение. Читатель не улавливает мгновения, когда на смену этому чувству приходит едва ли не комический восторг, - и вот уже любое слово или поступок Ахматовой (слово вздорное, поступок эгоистический) Шапорина сопровождает искренним вздохом: святая женщина.
Дневники Шапориной дискретны: то она замолкает на долгие месяцы (а то и на целые годы), теряя из виду – порой и навсегда – людей с незавершенными судьбами, то пишет с чрезмерной дотошностью, перечисляя, что где нынче почем (да и кто кому что сказал), путаясь – и запутывая гипотетического читателя, о котором она, впрочем, скорее всего, даже не задумывается. Очевидно, очень строгая к себе и на людях никогда ни на что не жалующаяся женщина (жалуется ей Ахматова – и она жалеет Ахматову) поворачивается к собственному дневнику «плачущей стороной» и скрупулезно перечисляет все свои беды и обиды – подлинные и мнимые. И да, случается, привирает.
Разумеется, дневники столь незаурядной личности требуют от издателя (редактора, рецензента, комментатора и прочих) колоссальных предварительных усилий как физических (включая прежде всего трудодни, трудомесяцы и, не исключено, трудогоды), так и умственных. И в «НЛО», осуществившем циклопическое издание, это вроде бы понимают. Но, увы, именно что вроде бы. Снабженный огромным вроде бы (опять-таки) научным аппаратом («А.С.Пушкин (1799-1837) – великий русский поэт»), «Дневник» на поверку оказывается изданием псевдонаучным и антинаучным.
Здесь комментируют всё, кроме того что и впрямь нуждается в комментарии. Здесь даже не предпринимают попытку превратить дискретное повествование в непрерывное, реконструировав (в примечаниях) пунктирно намеченные в основном тексте судьбы и сюжетные линии, будь это судьбы родных и приемных детей Любови Шапориной, деятелей науки и искусства, с которыми она дружила и, бывало, враждовала, или театральных коллективов, ею созданных и возглавленных, или пьес, ею написанных или переведенных... Кроме того, не прокомментировано и никак не отмечено ни одно сколь угодно скандальное свидетельство или высказывание самой Шапориной.
Вот характерный пример. Бенедикт Лившиц оклеветал Елену Тагер, из-за чего, по-видимому, и покончил с собой, утверждает Шапорина. У комментаторов это не вызывает ни малейших возражений! О поведении Лившица перед арестом, при аресте и после ареста известно довольно многое. И это многое отнюдь не сводится к формуле «Бенедикт Лившиц был стукачом» (Надежда Мандельштам). И хорошо бы сказать об этом в примечаниях пару слов. Но даже если и нет (допустим, нет места), то уж указать-то на то, что Лившиц ничуть не покончил с собой, а был расстрелян 21 сентября 1939 года, комментаторы были обязаны. Ничуть не бывало!
Конечно, комментаторы – одного из которых уже нет в живых – и редактор Абрам Рейтблат ведут себя так не со зла. Они стараются. Они сидят. Они пишут. Они высиживают свои примечания и концепции. И не они одни, разумеется. Такова отечественная филологическая традиция как минимум за последние полвека: мозги – ничто, задница – всё!
Но вот читаешь Шапорину – умную, живую, яркую, при всей ее фантастической недостоверности и патологической на всех обиженности, - и поневоле сравниваешь интеллект этой дамы (всего-навсего режиссера кукольного театра и средней руки переводчицы, правда, с пяти языков) с очевидной неспособностью мыслить системно (да и несистемно тоже), продемонстрированной ее издателями и комментаторами, - и поневоле припоминаешь все того же Мандельштама: «и клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь». То есть все эти наши филологи давным-давно уже никакие не Домби, а зомби.
И заключительный пример. Союз писателей. Секция перевода. Творческий вечер Ефима Эткинда. На вид ему двадцать шесть, пишет Шапорина. На самом деле, тридцать четыре –но это не комментируется. Присутствуют человек двадцать пять, а то и больше, пишет Шапорина. Русских из них четверо… Но это не комментируется тоже.
Такая книга.
Виктор Топоров, специально для «Фонтанки.ру»