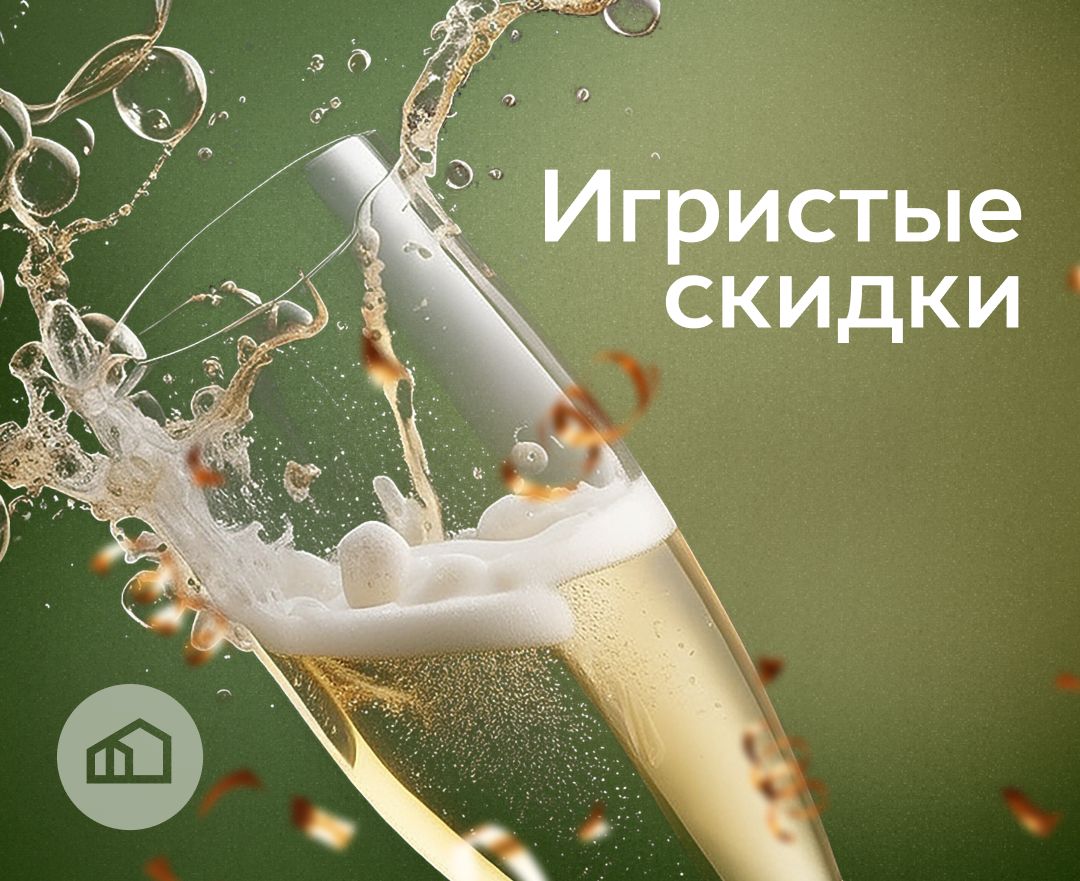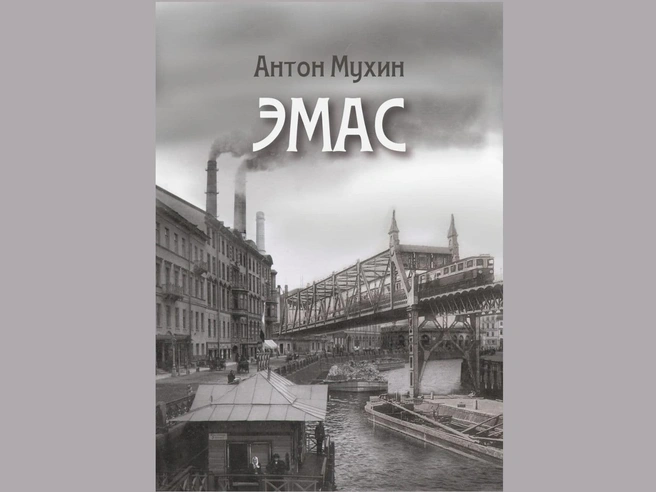
«Фонтанка» публикует новый роман журналиста Антона Мухина. Главы «ЭМАСа» будут выходить по одной в день. Читайте вместе с нами о том, как противостоять диктатуре Сети.
О чем эта история
ЭМАС — социальная сеть, электромеханический адресный стол, созданный на базе телеграфа и механических компьютеров-табуляторов, появившихся в России во время всеобщей переписи 1897 года. Как и всякая соцсеть, она стремится установить полный контроль над своими абонентами. И лишь отверженные, прячущиеся на старообрядческом Громовском кладбище за Варшавской железной дорогой, подозревают, что абонентский номер и есть предсказанное число зверя. Но не они одни восстанут против ЭМАСа.
Глава VII
Не в добрый час рабочий Путиловского завода Егор Хрулёв, поддавшись моде, открыл в ЭМАСе свой собственный бюллетень. Бюллетени были у Вани из 2-го литейного цеха и Макара, вместе с Егором работавшего в трубочном. Да и много еще у кого. Ванин пользовался наибольшей популярностью — всего за несколько недель у него образовалось больше ста читателей, главным образом парни из цеха и все, жившие в их бараке за Нарвской заставой. В том числе с десяток барышень. В своем бюллетене Ваня публиковал похабные стишки собственного сочинения, и тем объяснялся его успех. Макар же рассылал новости: каждое утро он покупал «Газету-Копейку» и сначала по дороге на завод, а потом в обеденный перерыв бежал к будке публичного аппарата ЭМАС, стоявшей на Петергофском шоссе у заводской проходной, чтобы передать сообщения в своем бюллетене. Но не просто передать: что-то Макар додумывал, «для интересу», как он говорил, а где-то и вовсе перевирал от начала до конца. Получалось любопытно. То как ломовик, перевозивший вещи одного доктора с Гороховой в новую квартиру, на Садовую, спьяну опрокинул воз и из раскрывшегося сундука вывалился иссохший труп докторовой жены, которую он объявил пропавшей десять лет назад, а сам убил и всё время держал при себе. То как трамвай старухе голову отрезал. А то — что у императрицы теперь вместо Распутина новый конфидент: выписанный из Германии через Швецию колдун, склоняющий её к обращению обратно в лютеранскую веру. Егор одно время даже был подписчиком этого бюллетеня, да потом бросил: что на небылицы время тратить, да еще и число читателей Макару собой увеличивать?
Егор не хотел подражать ни тому, ни другому. Он хотел рассказывать, как смешно и нелепо устроен мир. Как странно смотрятся на одной газетной странице рядом объявления о высылке французских открыток в закрытом конверте на указанный адрес за три почтовые марки и о книге заклятий на розыск погибших и пропавших без вести, которую вышлют за две. И с какою тоской будут вспоминать свои сегодняшние жалобы на дороговизну ситного те, кто завтра попадут на фронт. И не стали ли уже паровозы, проносящиеся по эстакадам в несколько уровней над улицами, более важными жителями города, чем сами люди, которые столько труда прикладывают, чтобы обеспечить им удобное скольжение по рельсам в небесах? Обо всём этом писал Егор в своем бюллетене, но имел всего 8 читателей.
Тогда он стал писать на политические темы — про социалистов и борьбу рабочих за свои права. Это, казалось Егору, одновременно и умно, и затрагивает чувства большого числа людей. Читателей прибавилось, но незначительно: их стало 14. Он читал бюллетени видных социалистов и находил, что они ничуть не умнее его, но, однако ж, насчитывали десятки тысяч читателей.
Егор рекламировал свой бюллетень как мог. «Всякий, кому интересны новейшие события политической жизни рабочего класса, могут найти их описания в бюллетене № 45842849», — писал он химическим карандашом на клочках бумаги и рассовывал всюду, где, по его мнению, могли встретиться будущие читатели. В щелях деревянных рабочих бараков у себя за Нарвской заставой, у Народного дома на Обводном канале и в станционных ретирадниках на Балтийском и Варшавском вокзалах. Он даже рассылал по случайным абонентским номерам приглашения читать его бюллетень, хоть и знал, что подобного рода «досаждающая реклама от лиц, абоненту лично незнакомых» категорически запрещена правилами ЭМАСа.
— Ты, Егорка, пиши, как Ваня из литейного: про титьки, ну, или, хи-хи, сам понимаешь... — говорила чернявая Маша, которой он жаловался на непонимание всего окружающего мира. — Не смотри, что мы, барышни, такие стеснительные, это только на публику, а так-то нам знаешь как нравится…
— А разве про то, как странно устроен наш мир, не нравится? — удивлялся он.
— Нравится, и про это нравится, — покорно соглашалась Маша.
Но читательницей Ванькиного бюллетеня она была, а Егорова — нет.
Кто-то посоветовал Егору обратиться к мастерам, которые могли помочь не только разослать приглашение читать бюллетень другим абонентам, но и даже встроить его электрограмму в бюллетени других. Однако цены они заламывали совершенно бессовестные, от 100 рублей, то есть больше всей Егоровой месячной получки. И он ушел от них несолоно хлебавши.
Жизнь больно резала его по сердцу. На празднике в Екатерингофском парке, отданном на откуп рабочим, а потому не очень чистом, но родном, он видел, как не только знакомые девки вились вокруг Ваньки, но и даже незнакомые, с Обводного канала и Лейхтенбергской улицы, от Калинкинского завода подходили со словами, что-де читают его бюллетень и приходят от него в восторг. А Иван расцветал и обещал писать больше.
Егор говорил себе, что и не хотел бы внимания этих дур. Он бы и бросил вести бюллетень, но чувствовал, что если в его жизни и есть смысл, то только в том, чтобы выражать себя, а как это можно было сделать иначе?
Раз вечером, идя вдоль линии Балтийской железной дороги, у старообрядческого кладбища он встретил старичка, разговаривавшего с пьяненьким чиновником.
— Истинно говорю: последние времена наступают. Видишь, уже по сказанному пророком всем номера выдают. И без тех номеров никто не сможет ничего сделать. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его».
— А я вот не имею сего числа и видите — живу-с, — икнул пьяный чиновник.
— Блажен ты, яко не обольщен зверем. В той же главе сказано: «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Твое же, значит, имя записано, и уготована тебе жизнь вечная.
— Ишь, — снова икнул чиновник, — думали прежде, что раз мы без номера, то оттого, что голь перекатная. А оно вот как: блаженны и в книге у Агнца записаны!
Егора, который прислушивался к этому разговору, как будто ударило током. Он мигом перемахнул через невысокий деревянный заборчик и подошел к разговаривавшим.
— А кто ж это мы? — спросил он.
— А тебе, мил человек, что за печаль? — подозрительно покосился на него старик.
Но чиновник был рад рассказать любому.
— Мы — а это, стало быть, которые тут живем, без адресов, а у кого нет адреса — тот и в стол адресный, вестимо, не попадает. Пойдем, покажу вам.
И он потащил обоих на кладбище. Суеверный старичок испугался.
— Да не бойся, живые мы.
Чиновник повел их мимо могил богатых купцов и их вдов и завел в один из склепов, откуда лестница вела вниз.
— Тут, видишь, староверы раньше хоронились, пока им собираться нельзя было. А теперь, когда свободы дадены, они церковь себе построили. Ну, а мы тут, значит… жить стали. Ты, отец, не старовер?
— Избави бог! — перекрестился старик.
— Ну, и я тоже, а этот (он кивнул на рабочего) — и подавно, пролетарий.
Чиновник толкнул дверь в склеп, сошел по ступеням вниз и оказался в большой подземной зале, служившей, видимо, старообрядцам молельной комнатой. Теперь вдоль стен там стояли в два яруса полати, на которых размещались люди: кто спал, а кто, проснувшись, с интересом глядел на пришедших. Всё очень напоминало ночлежку.
Старик уселся на табуретку, обвел ночлежников взглядом из-под косматых бровей.
— Что ж, никто, что ли, из вас номера в машине этой не имеет? — спросил он.
— Нет, отец, безномерные мы, — раздались голоса.
— О, блаженный день! Сподобил меня Господь увидеть праведников, укрывшихся от зверя и не носящих печати его! Блаженны вы, отринувшие соблазны!
Старик начал проповедовать и, постепенно заводя сам себя, дошел до состояния, близкого к трансу. Он то крестился, то вопил, то шептал, то падал на колени, пытаясь поцеловать ноги ночлежников. Из его завываний становилось понятно, что он считает пришествие Антихриста состоявшимся, а кладбищенских обитателей — теми праведниками, которые спасутся, поскольку единственные не носят на себе его печать.
Егор внимательно следил за их лицами. Удивленные, некоторые даже раздраженные вначале, они все теперь явно сочувствовали словам старика, и мысль о собственной исключительности нашла дорогу в сердце каждого.
— Фарисеи погибнут, богатые не войдут в царствие небесное, лишь вы, нищие, будете блаженны! — вопил старик.
Ночлежники слезали со своих полатей и сползались к нему, как к разложенному на опушке холодного сырого леса костру, вытягивали из грязных воротников немытые шеи и беззвучно шевелили губами, как будто повторяя слова старика. Впервые, наверное, в жизни их превозносили, а не унижали — и тем легче они открывали изголодавшиеся по одобрению сердца. Про Егора они совсем забыли.
Потом старик совсем выдохся.
— Идти мне надо, отцы, — сказал он. — Хорошо у вас, да надо другим рассказать, что нашел я наконец обитель праведников. Придем мы к вам — уж не гоните!
— Приходите, отец, приходите, места хватит, — бормотали ночлежники.
Егор подал старику руку, и вместе они поднялись на поверхность.
— Ну, отец, здесь наши пути разойдутся, — сказал Егор. — Чай, свидимся тут. Ты когда будешь?
— Да вот, Егорушка, мы же с братьями на Шлиссельбургском тракте живем, у моста Финляндского. Соберемся и придем сюда с нашей квартиры. Днями, Егорушка, днями.
Старик повернулся и заковылял в сторону Обводного. Егор посмотрел ему вслед. Такой шанс, как сегодня, выпадал только раз в жизни, и упускать его было бы преступным. Тем более если старик приведет сюда еще каких-то братьев — наверняка таких же, как и сам. Егор не мог поступить иначе. Он наклонился, поднял с земли камень потяжелее, в два прыжка нагнал старика и со всей силы ударил в затылок. Тот даже не вскрикнул — легко, как соломенное чучело, повалился на своих иссохших ногах в дорожную пыль. Егор схватил его и поволок к железной дороге. Стариково тело было легким, не тяжелее дохлой собаки. Он положил его на пути так, чтобы первый же паровоз скрыл всё преступление.
Утром следующего дня Егор пошел в сторону порта. Там, в трущобах Канонерского острова, ютилось много разных подозрительных людей, и в том числе легко было найти книгонош. Гонимые официальными церковными властями, они собирались почти так же тайно, как и социалисты, набивали свои котомки книгами и шли с ними по рабочим окраинам, нести свет правды их обитателям. Но только были эти книги не Марксовым «Капиталом», а Святым Евангелием. Побродив по улицам с четверть часа, среди обывателей низшего класса — портовых докеров, профессиональных нищих-богомольцев, жёлтобилетниц и простых забулдыг — Егор легко увидел нужного ему человека: в дешевой, но чистой одежде, с осоловелым взглядом и большой торбой за плечами.
— Эй, — окликнул он, — ты, что ли, книгоноша?
Человек подскочил.
— Как есть я, а вам что ж угодно?
— Да мне бы Библию почитать, с откровениями.
Книгоноша заулыбался.
— Извольте, будьте так любезны.
Он вытащил из торбы дешево изданную, почти на папиросной бумаге Библию и отдал Хрулёву.
Весь день Хрулёв читал Апокалипсис и Евангелие, заучивая наизусть понравившиеся ему цитаты, а вечером пошел на кладбище. Давешнего чиновника он не встретил, поэтому сам отыскал нужный склеп и по лестнице спустился вниз.
— Отец Афанасий, — сказал он ночлежникам, — велел мне к вам прийти и слово от него сказать. Поди, говорит, поклонись блаженным и свидетельствуй мое к ним почтение.
— Что ж сам-то дед не пришел, коли мы у него в таком почете? — лениво спросил кто-то.
— Говорил, говорил, а чего хотел — непонятно, — отозвался другой.
— А ты чего пришел? — спросил третий.
В животе у Егора похолодело. Он понял, что не сможет повторить ту легкость, с которой старик вчера завладел умами кладбищенских проживальщиков. И напрасно было на это рассчитывать. Земля уходила из-под ног, хотя сам он был под землей. И не жаль было старика, но неужели судьба, поманившая его возможностью, вдруг так жестоко её отнимет? Егор закрыл глаза. Нужно было отвечать, сразу, это был единственный шанс. Но он не знал что.
— А потому и не пришел, — Егор говорил наугад, не зная наперед, что скажет после, — вера, говорит, моя в них велика, но велика ли их вера в самих себя? Сказано: много званных, да мало избранных. И не уподоблюсь ли я тому, о ком речено у Матфея: не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Иди, говорит, и спроси их: избраны ли или свиньи? И кто избран, кто блажен и хочет в чертоге Отца Небесного быть превыше князей мира сего, кто отринул печать зверя, то пусть встанет рядом с тобой. А кто хочет последним среди людей остаться — что ж, пусть остается лежать, как лежал. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить её вон, на попрание людям!
Неизвестно, какое действие произвела бы на ночлежников проповедь Егора, произнесенная хоть и не так надрывно, как мог бы давешний старик, но для начинающего вполне неплохо. Но как раз в этот момент раздался треск — подломилась одна из опор полатей, и лежавший на ней человек — тот, что возмущался отсутствием деда, — скатился прямо под ноги Егору.
Вся компания была поражена явно явленным чудом.
— Я, я, я... — испуганно забормотал упавший, — я не свинья. Я — соль, соль земли. Бог меня ведет!
И следом, один за другим, ночлежники начали вставать с полатей и — возможно, первый раз в жизни осмысленно, — крестясь, стали подходить к Егору. В этот момент своего первого триумфа он вдруг подумал, что совершил чудовищную ошибку, бросив тело старика близко от кладбища, так что кто-нибудь из ночлежников мог его увидеть.
— А отца Афанасия не будет, — сказал он, исправляя эту ошибку. — Преставился вчера дедушка. И благословил меня к вам идти.
Тою же ночью Егор рассказал ночлежникам о своей жизни: что был он сыном купца первой гильдии и богатой помещицы, учился в университете, снимал квартиру на Каменноостровском проспекте, но занятия не посещал и всё больше любил ездить с барышнями на Острова к цыганам. Про барышень и кутежи он рассказывал особенно подробно, насколько только хватало его фантазии, со всеми почерпнутыми из Ванькиных стишков подробностями. И конечно, о том, как, имея абонентский номер ЭМАСа, переписывался с ними по десяти электрограмм на день, а также состоял в переписке с градоначальником, министром двора, Куприным и Игорем Северянином. Последний даже посылал ему на редактуру свои стихи, прежде чем рассылать их через бюллетень. Был, конечно, бюллетень и у самого Егора, с 91 тысячей читателей.
Но в один день увидел он в жизни своей все знаки скорого прихода Антихриста. Тогда стер он номер, что дал ему зверь, отказался поклоняться ему и за то был извергнут из общества. Надел бедную одежду, и давешние барышни стали воротить от него нос. Пошел работать на завод, и встречные городовые уж не вытягивались перед ним во фрунт, а презрительно смотрели: мол, хоть я и всего лишь городовой, а ты против меня — мазурик, захочу — в участок пойдешь! Жалко было Егору барышень — каково-то им будет, когда из их белых чресел полезут опарыши. Что останется тогда у них? И как будет скулить — не от боли, а раздираемый бессильной злобой — городовой в пламени, снизу вверх глядя, как те, над кем он властвовал, теперь пируют в небесах. Так как же будет скулить? А вечно!
Так дал Егор ночлежникам новую жизнь. Всё то, чем не могли они обладать, пропитал он таким ядом, что и прикасаться к этому стало противно. Презрение, питаемое к ним обществом, возвел в достоинство. Отверженность — в избранность. С высоты своего купеческого происхождения и распутной жизни на Островах спустился он к ним и сказал, что они — лучшие. Последние стали у него первыми.
Когда последние из них уснули, он поднялся из-под земли на кладбище. Эмоции рвали Егора на части. Что какой-то бюллетень? Он чувствовал себя генералом, у которого была хоть и маленькая, но собственная армия. Послушная и верная. Присягнувшая лично ему. И как хороший генерал, он любил каждого своего солдата, заботился о нём как о себе — чтобы иметь возможность в нужный момент по своему желанию отправить на смерть.
В армии (именно так Егор называл её про себя) у него было пока восемь человек. Почти все — обычные кладбищенские нищеброды, каких полно в Петрограде. Летом живут в заброшенных склепах, а как похолодает — перебираются в ночлежные дома. Могут, как прижмет нужда, поработать и подённо, на разгрузке барж или на стройке, но предпочитают службу по похоронному ведомству: факельщиками, в данных на время церемонии цилиндрах и фраках, идти перед катафалком или побирушками.
Из них Егор сразу выделил двоих — всегда пьяного и икающего чиновника с всклокоченными волосами, который, конечно, уже давно нигде не служил, но всё равно носил продранный вицмундир и фуражку с треснутым козырьком. Второй был спившимся профессором и даже имел не то квартиру, не то комнату, которую нанимал на свою жалкую пенсию, но жил обыкновенно вместе со всеми. Мозги свои, впрочем, профессор не пропил.
— А вы, Иван Францевич, что же, тоже солью земли себя считаете? — спросил Егор, когда они вдвоем шли по кладбищенской дорожке.
— Что вы, Егор, хотите этим вопросом узнать?
— Не думал, что вы веруете.
— Так ведь и вы не веруете.
Егор просиял. Профессор отвечал так, как будто говорил по написанному Егором сценарию.
— Признаю, вы очень наблюдательны. Но что же, мне было бросить этих людей, оставить их заживо гнить в склепе, отверженными и презираемыми? Или я должен был воспользоваться возможностью дать им почувствовать себя людьми, и даже лучшими из людей?
— Вы правы, Егор. Именно так всегда поступают те, кто ведет общество вперед. И я рад, что оказался в этот момент с вами и могу поучаствовать в общем деле.
— Спасибо, Иван Францевич, — Егор обнял старика, поморщившись от исходившего от него запаха. — Я знал, что вы меня поймете и поддержите. И что я могу на вас рассчитывать.
Профессор поковылял куда-то в сторону Обводного канала, где у него, надо думать, и была квартира. Егор остался один. Итак, у него внезапно появилась своя армия, но куда он должен был её вести и, главное, зачем? Хрулёв понимал какие-то вещи не хуже выпускников Николаевской академии Генштаба: армия должна воевать. Он видел, как огромная машина ЭМАСа растет, распуская свои щупальца по улицам Петрограда, облегчая жизни многим, играя на их амбициях и корежа жизни остальных. И даже если не сама она корежила, а социальное устройство мира, эксплуатация и неравенство, — всё то, о чем писал Маркс и говорили в рабочих кружках, — ЭМАС был символом. Обладание абонентским номером, как паспортом, еще не давало само по себе никаких прав, но его отсутствие делало и вовсе нечеловеком. Обладающим же нужно было бежать за всеми, чтобы быть не хуже прочих, показывая себя. И в этой гонке многие оступались и падали и попадали под колеса. И все, кто искореженным вылетел из-под них, были его будущими солдатами. Как пойдут они на бой и с кем? Бог весть.
Самым бесхитростным ночлежникам, с грошовыми душами, Егор рассказывал про их избранность и призывал спасать заблудших, вырывая их из лап Антихриста. Этих солдат он про себя называл рядовыми. Тем, что посложнее, как профессор, объяснял свои действия желанием спасти самих рядовых и призывал их себе на помощь в этом благородном деле. Они были у него унтер-офицерами. Пока унтеров двое, но будут и другие. Будут в его армии и те, кто встанет над ними, — штаб-офицеры. Ей, гряди, Господи Иисусе!
Следующим же днем Егор отобрал двоих рядовых, казавшихся ему наиболее толковыми, сводил их за свой счет в баню и постирал одежду. После чего отправил в город с заданием: ходить мимо аппаратов ЭМАСа да приглядываться к людям. Если кто в слезах выходит или недовольный, то аккуратно расспрашивать, в чем причина, и выводить на мысль, что, может быть, вина в самой машине. А когда так — тогда вести такого человека к нему.
В первые два дня его посланцы вернулись ни с чем. Сам Егор к этому дню бросил свою работу на заводе, съехал из барака и снес все накопления в сберегательную кассу, а сам вместе с ночлежниками поселился в склепе. Из дешевых бульварных книжек, которые читал, он знал, что в каждой секте (а ведь по сути это была именно она!) обязательно должны появиться богатые экзальтированные сторонники, которые будут оплачивать её существование. И хотя Егор понимал, что книжкам этим верить нужно с осторожностью, во-первых, других у него не было, а во-вторых, примеры успешных старцев во главе с самим Распутиным стояли перед глазами.
Но вот прошел день и два, а посланцы его приходили с пустыми руками. Победы же армии были нужны не меньше войны. Егор совсем пал духом и почти полдня пролежал на нарах, глядя прямо перед собой и осознавая, что предприятие его, вероятно, закончилось крахом. И тут случай вновь оказался на его стороне.
В те дни началось новое наступление Юго-Западного фронта в Галиции, и с театра боевых действий пришла радостная весть: армией генерала Каледина, героя Луцкого прорыва, вновь взят оставленный нами в 1915 году Львов. Незнакомые люди на улицах поздравляли друг друга и обнимались, как на Пасху. Газеты, отставшие в конкуренции с бюллетенями ЭМАСа, воспряли, печатая пространные и не всегда достоверные подробности славных боев, которые не могли позволить себе короткие сообщения электрограмм. Мальчишки на улицах звонкими голосами выкрикивали заголовки, пророчившие скорое возвращение наших войск и в Перемышль, и публика расхватывала газеты на лету. На фонарных столбах и стенах домов вывешены были флаги — истосковавшаяся по победам столица радовалась им, как солнечным дням, с такою же редкостью случающимся в Петрограде. А уж радость петроградских обывателей солнцу является баснословной.
По случаю победы в Народном доме ПТА был назначен абонентский маскарад со сбором средств в пользу увечных воинов и семей погибших при занятии Галиции. 20-этажный дом этот, самый высокий в Петрограде, был построен на средства агентства по образцу небоскребов в Северо-Американских Соединенных Штатах, облицован известняком и увенчан пирамидальной башней. Он стоял на углу Невского и Фонтанки, по диагонали от Аничкова дворца и, говорят, очень раздражал своим гигантским размером проживавшую там вдовствующую императрицу Марию Фёдоровну.
Как и положено Народному дому, в нём проводились увеселения для обывателей, имеющие целью привлечь их к общественной жизни: показывали фильмы соответствующего содержания, читали лекции, работала дешевая библиотека, различные кружки и даже репетировал собственный духовой оркестр. Верхние этажи небоскреба предназначались для более взыскательной публики и даже имели отдельный вход с Невского. Там-то и проводились абонентские маскарады.
Маскарады состояли в том, что пускали на них только абонентов ЭМАСа. Там следовало быть в костюме и соблюдать главное условие: ни при каких обстоятельствах не использовать своего подлинного имени, а обращаться к другим только по номерам. Для чего номера прикреплялись на видное место одежды.
Последнее время Народный дом пустовал. Его, по установившейся тогда в высшем свете моде идти на жертвы, разделяя судьбу всего воюющего народа, взялись переоборудовать под госпиталь. Однако какое-то колесико в благотворительной машине не повернулось должным образом, и процесс застопорился: публику в нём уже не развлекали, но и раненых еще принимать не стали. И надо же было случиться катастрофе в тот единственный день, когда в Народном доме решили провести маскарад: в самый разгар праздника паровоз, шедший по эстакаде над Фонтанкой на уровне 5-го этажа со стороны Летнего сада, сошел с рельсов. Стрелка, переключавшаяся на ответвление в сторону Николаевского вокзала, почему-то не сработала до конца, колеса выскочили из колеи, и огромная стальная махина, пробив стену, влетела в залу, где проходил маскарад. Более того: она пролетела всю её насквозь и пробила вторую стену, выходящую на Невский. 73 участника маскарада были раздавлены насмерть, причем более 30 из них выброшены на главный проспект столицы. Ужас всего происходящего дополняло то, что паровоз вез для погребения тела скончавшихся от ран в лазарете Училища правоведения — их должны были выгрузить в покойницком павильоне Николаевского вокзала и везти на Волковское кладбище. И гробы эти из разломившегося вагона тоже вывалились на улицу.
Страшная картина предстала гулявшим по Невскому. Уже начинавшие высыхать, бескровные тела воинов лежали вперемежку с еще теплыми и румяными от карнавального азарта ряжеными, имевшими номера вместо имен. И плыл по проспекту запах карболки, смешанный с дорогими духами.
Так, собравшись веселиться для того, чтобы помочь увечным и семьям погибших, номерные теперь обрекли свои собственные семьи на такую же судьбу. Символизм произошедшего был столь очевиден, что агентам Хрулёва, которых он талантливо посылал в самые важные точки — на место трагедии, в траурную процессию по Невскому, на похороны, без труда удалось поймать сразу несколько душ. В помощь им оказалось и то, что ряженые, у которых не нашлось ни родственников, ни друзей, чтобы опознать их, были похоронены под своими номерами. Хотя ПТА ничего не стоило сообщить имена абонентов, оно почему-то этого не сделало. А может, у него никто не справлялся. Через несколько дней австрийцы, усиленные четырьмя немецкими дивизиями, нанесли удар по Львову, который мы вынуждены были оставить с большими потерями. Но из-за катастрофы на Невском это известие прошло мало кем замеченным.
Так армия Хрулёва пополнилась следующими солдатами. Барышня, которая после гибели на фронте брата совершенно не понимала, как мир может оставаться прежним, а все вокруг — всё так же пить вино, ходить в рестораны и синематограф, влюбляться и изменять. С ней удалось разговориться в толпе на месте катастрофы. Совершенно экзальтированная и, кажется, весьма состоятельная особа неопределенного возраста, со дня на день ожидавшая Второго пришествия и с готовностью ловившая каждое слово, подтверждавшее её ожидания. Безнадежно юродивый Юрочка, всё время плакавший о похороненных под номерами, так как они не попадут в Царствие Небесное. Средних лет доктор, пораженный цинизмом общества, считающего само собой разумеющимся устраивать карнавалы для помощи сиротам. Он тоже видел в катастрофе знак свыше, хотя, кажется, был человеком рациональным. Солидного вида, но совершенно безумный инженер, всё время повторявший mea culpa, что, как объяснил Егору Иван Францевич, по-латыни значило «моя вина». Во всём остальном инженер был совершенно нормален, но на любые вопросы о его прошлом или хотя бы об имени впадал в паническое состояние и ничего не мог объяснить. И еще несколько простых людей, не заслуживающих отдельного внимания.
Хрулёв был счастлив. Все, за исключением экзальтированной особы, могли вербовать в его армию новых солдат, а она — обеспечивать материальную составляющую. Понимая, что сплоченность рядов зависит от отсутствия контактов с внешним миром, он легко решил эту задачу, потребовав от всех новоприбывших отказаться, у кого она была, от «печати зверя» — абонентского номера ЭМАСа.
Продолжение следует
Об авторе
Антон Мухин — петербургский политический журналист. Работал в «Невском времени», «Новой газете», «Городе812», на телеканале «100ТВ». Сотрудничал с «Фонтанкой.ру», «Эхом Москвы», «Московским центром Карнеги».
В настоящее время работает в «Деловом Петербурге».
Автор книги «Князь механический».