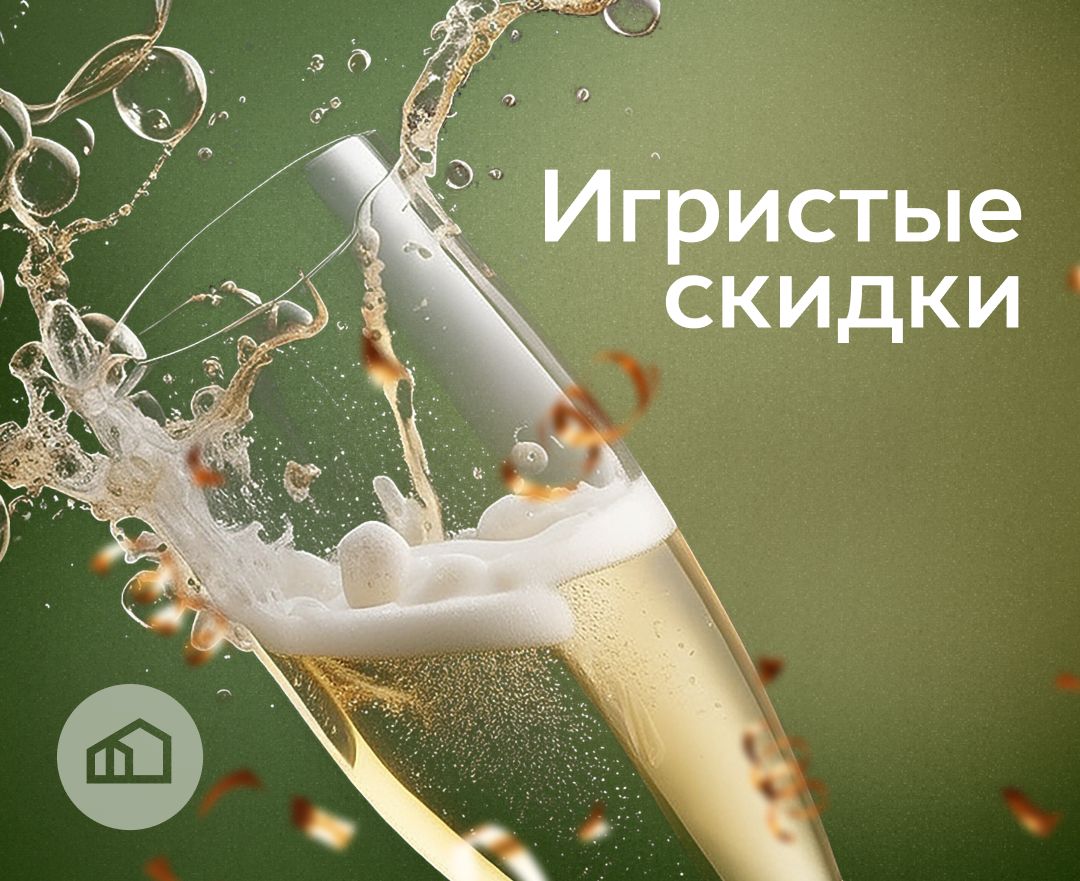В Петербург из Америки приехал Константин Симун, автор известного всему миру блокадного памятника «Разорванное кольцо». Русский музей организовал юбилейную выставку по случаю 70-летия скульптора. Наш корреспондент побеседовал с Константином Михайловичем об истории, творчестве и о последних его работах.
С Константином Михайловичем Симуном, автором известного всему миру блокадного памятника «Разорванное кольцо», который приехал в Россию из Америки по приглашению Русского музея, организовавшего его юбилейную выставку (70 лет!) в Строгановском дворце, мы договорились встретиться в центре города. Я позорно опоздала и долго оправдывалась, рассказывая о непослушном своем автомобиле, не пожелавшем заводиться в наступившей сырости. Эти подробности выкрутасов «классики отечественного автомобилестроения» сослужили мне неожиданную службу Константин Михайлович сказал: «Если уж вам удалось договориться с вашим автомобилем, может, мы съездим за одним камушком? Здесь недалеко, он мне очень нужен для работы». И мы поехали, невзирая на «кирпичи» и притаившихся под ними гаишников. Во время нашего небольшого путешествия и состоялась следующая беседа:
– Константин Михайлович, что для вас первично: личностное отношение к творению или мнение зрителя? Насколько важен адресат в вашем творчестве?
– Это очень серьезный вопрос... Сезанн писал об Эмиле Бонаре: «Если художник вносит свое, то он вносит свою незначительность». Потому что человек сам по себе незначительность. Существует более значительная объективность. Какая – не знаю, но я это чувствую. Вот, например, мы входим в зал и сразу видим: «Ага, здесь Сезанн висит». Сезанн, не Репин! Мы Репина можем спутать с каким-нибудь другим художником, но это писал Сезанн. Это такая объективность – «незначительность своя»... как на острие ножа.
– Так ведь эта незначительность и двигает человеком, заставляет его совершать поступки... Или заниматься творчеством. Если бы человек был идеален, как та самая истина, то ему не нужно было бы движение.
– Но истина непостоянна.
– У каждого своя?
–Нет, каждый по-своему ее чувствует.
– Но она недостижима, иначе ее бы достигли, и было бы не к чему стремиться.
– Нет, мир не деревянный и не железный. Я сейчас живу в Бостоне, но это была не эмиграция. Я уехал на похороны, и мне надо было остаться там и вырастить внуков. Я уехал из Советского Союза, а приехал в Россию. Мы все ходили в школу, получали задания и оценки. Это как история Древней Греции. Я сейчас чувствую себя очевидцем извержения вулкана Везувия, вижу его кратер, но наблюдаю со стороны.
– Это как у этнографов, которым рекомендовано изучать этнографию чужой народности, потому что со стороны виднее?
– Да, да, именно так я себя и чувствую. На уроке мы узнавали, что по каким-то причинам Древний Египет кончился, Римская империя кончилась... А тут вдруг на глазах рухнула империя Советский Союз.
– Но она изначально была фейком, потому и рухнула в одночасье. Империи создаются долго, а рушатся быстро.
– Она рухнула бестактно. А как она создавалась, сколько жизней погибло... Да и у меня не было хороших отношений с советской властью.
– Могу я вас спросить об институте Репина... Вас выгнали оттуда с такой нечеткой формулировкой «за формализм». Поясните, пожалуйста, за что же на самом деле?
– Формулировка «за упорное нежелание следовать школе в работе над этюдами». Я искренне скажу вам, эта формулировка идиотская. Написали бы «за неуспеваемость», они ведь все время мне одни двойки ставили: по скульптуре, по рисунку, по композиции... Но они были настолько злы, что этой формулировкой высекли сами себя. У меня был хороший друг, художник, и я говорю ему: «Я мог бы, наверное, продать эту бумагу за 100 рублей». А он мне сказал: «Да ты копии с нее можешь за 100 рублей продавать!»
Были этюды, мы лепили и рисовали с натуры, и я был так заворожен моделью и работой... Только модель и я. У всех этюды были внешне похожи, у всех были... как бы вам сказать... восковые фигуры этой модели, один к одному. А у меня что-то с ней происходило, и я испытывал даже не восторг, а что-то божественное. А мне предлагали стипендию в 20 (или 200?) рублей за то, чтобы я отказался от этого восторга и делал, как надо. И я, конечно, мог бы, потому что я перед этим это делал, но для этого я должен был отказаться от своей нравственности и честности.
– Это, как мне кажется, проблема индивидуума, нестыковки его и общепринятой нормы. И сегодня она существует в разных обществах. Я думаю, что, когда вы приходите в Бостонскую галерею и предлагаете что-то авторское, сугубо оригинальное, вам часто приходится сталкиваться с непониманием и неприятием вашего творчества.
– Всегда есть подобное, потому что там это бизнес. Но меня это не волнует, потому что я заворожен этим процессом...
У меня есть эскиз работы, посвященный событиям 1991 года («Медный всадник», перевернутый, опрокинутый вниз головой, где на тыльной стороне постамента, под копытами, надпись: «1991». – Д. П.). Как назвать то, что произошло тогда?
– Сложно сейчас дать определение, часто эти события называют «переворотом», но ведь исторические термины не всегда четко отражают действительность.
– «Переворот» – термин не очень красивый... Но вот у меня есть такой эскиз памятника событиям 1991 года. Я продолжаю это рисовать, есть вариант с лестницей, по которой зритель проходит под памятником, как через Рубикон.
– Это проект, который вы бы хотели осуществить? Это не заказ и не конкурс?
– Да. Я, конечно, хотел бы поставить этот памятник у Белого дома в Москве. Но у меня есть различные эскизы, в том числе для Михайловского сада.
– Я думаю, что с установкой новых памятников «других» авторов в Москве сложнее, чем в Петербурге. Это связано с некой монополией...
– Я думаю, что даже коммунисты более бережно относились к городской среде, чем нынешняя власть.
– Это вопрос критериев, применявшихся и превалировавших в разные времена. Ведь ваш проект памятника «Разорванное кольцо» был выбран в 1966 году. Какой-то критерий был тогда? Был же конкурс. Как это получилось?
– Теперь, прожив достаточно времени, я могу сказать, что это все было случайностью, как говорил Салтыков-Щедрин, «по недосмотру». Вот и «Разорванное кольцо» точно по недосмотру. Когда выбирали эту работу, не было главного художника в совете. Петров, который был им в то время, сказал, что, если бы он присутствовал, он бы не согласился на этот проект ни за что.
– Видится ли вам какая-то разница между тем, как конкурсные работы выбирались раньше, и тем, как они выбираются сейчас? Вот в случае с проектом памятника Бродскому... Там ведь конкурсные проекты были выставлены для обсуждения и всеобщего обозрения. И как же принималось в итоге решение?
– На самом деле, мне очень нравится народ, но он не может выбрать. Я бы сказал вам очень грубую поговорку, но она очень точная. Мой хороший друг, художник Володя Волков начал служить в армии еще до Второй мировой войны, в Сибири. У его начальника-майора была любимая поговорка: «Ну и народ! Ему х.. в рот, а он кричит и ругается, что два полагается». Власть же всегда «против». Возьмите Ван Гога. Не было ведь никакой советской власти, но они же дождались, пока он помрет. Ван Гог при жизни не продал ни одной работы.
– Но это всегда было: непризнание при жизни и канонизация после смерти...
– Да. А мы говорим: «Эта сучья советская власть»... Но та же советская власть строила мастерские, которые потом захотели отобрать. Правда, власть была идеалистическая. Мог годами работать завод, который годами же не приносил прибыли.
– Раздача мастерских – шаг идеалистический или все-таки идеологический?
– И то, и другое. Потому что советская власть – это монарх, ей было нужно свое искусство, которое будет ее возвеличивать. А сейчас кому это нужно? Только как товар, который можно продать. А когда автор помрет – продать дороже.
– Мне хотелось бы задать вопрос по поводу ваших учителей. Если начать с Китайгородской... Как они определяли вас в творчестве?
– Опять же случайность. Была война, я был в эвакуации в Кировской области в детском доме. Там один парень рисовал матросов. Просто рисовал. Я завороженно смотрел на него, а он закрывал от меня рисунки, и только за то, что я отдавал ему еду, он мне их показывал. Сейчас я думаю, это был честный выход. И когда я приехал в товарном поезде обратно в Ленинград, по которому так тосковал в эвакуации, я расстроился, что увидел деревья...
– Потому что вы тосковали по городу и улицам?
– Да, по камню. Я приехал и пошел поступать во Дворец пионеров. Сдал экзамен по живописи. Мне дали такую бумажку, где было написано, когда прийти и номер комнаты, где будут проходить занятия. Я потерял ее. Тогда я пришел туда и стал открывать все двери подряд. И вот за одной из дверей мне сказали: «Чего стоишь? Заходи, заходи». Это и была Китайгородская. И дала она мне кусок глины. Так я и остался там, с тех пор я этим так и занимаюсь.
– А образы монументальные приходят к вам в связи с какими-то внешними событиями и обстоятельствами или они возникают вне зависимости от внешнего мира?
– По-разному. Если взять «Разорванное кольцо», то это не была та работа, без которой я просто не мог жить, и мне хотелось что-то сделать. Но эта работа жизненно важна для меня, она знаковая.
Я понимаю, вы видели эту работу, были на выставке... А вот как-то из соседней квартиры вышел пьяный водопроводчик и спросил меня: «Это ты сделал?» – и на пальцах показал памятник. Я потом искал что-то похожее. Мне очень нравятся наскальные надписи, рисунки. Я думал, может быть, я найду это там? Если нам надо поймать мамонта, я за кустом, а вы за деревом; нам нужно окружить его и нельзя крикнуть. Вот такое движение и его изображение естественно, но его нет, я не видел этого знака. Круг, крест есть, а такого знака нет.
– Но у вас образ именно разрыва кольца. Как он возник?
– Не знаю... Когда мы приехали туда, к Ладожскому озеру, вышел архитектор и сказал, что он видит здесь вертикаль, потому что там везде горизонтально, и ее надо воткнуть в эту дорогу. Ведь у нас тут в России если делают памятник кургану, то сначала его сносят, а потом делают ему памятник, верно? Так же и с этой «Дорогой жизни». Они убрали эту дорогу (я был против). Закатали ее асфальтом... Это уже отношение... А у меня возникло первое движение, когда еще не было заказа на памятник, сохранить саму дорогу, как рукопись, а они ее убили. Вы напишите, может, кто-нибудь захочет это восстановить, убрать этот асфальт. Я бы приехал и только этим и занимался бы. Там драгоценные булыжники розового цвета.
– Они были привезены и уложены специально для этой дороги?
– Вы знаете, раньше вообще все дороги были из булыжника. Я думаю, что она сначала шла к воде, а потом по льду. Это была обычная для того времени дорога, и она была создана во время войны. И она есть там, под асфальтом, я ее просто чувствую.
– В Бостоне вы сделали памятник русскому кукольнику Фокину. Сильна ли разница в восприятии современной скульптуры, которая в ее малых формах чаще всего нетрадиционна, здесь, в России, и там? Насколько серьезно относятся к ней в США?
– Я не стал бы употреблять слова «серьезно – несерьезно», та скульптура, которую я там сделал, ее просто любят.
– То есть в Америке публика более открыта к нетрадиционному творчеству?
– Можно и так сказать. Понимаете, мне там удалось, что, бывает, редко удается, правильно расположить памятник вот тут, на данном пространстве. Вот здесь стол, вы на него положили телефон, еще что-то. Вы неаккуратно, небережно к нему отнеслись. Нужно почистить его, осмотреть. Так и площадь. Там, на площади, стоят такие надолбы из серого гранита, чтобы отделить прохожих от машин (в Петербурге они раньше тоже были, чтобы кареты не задевали углы домов). И там выступал Игорь Фокин, очень красивый человек, американцы даже сделали кино на эту тему. Я вылепил одну из его кукол, взял эту тумбу и только позолотил верх, а на нее поставил куклу. Вокруг стоят тумбы, а тут получился дворец. Я ничего не испортил в городе, я не изменил ничего, только чуть-чуть...
– А что вы думаете по поводу малых архитектурных форм? Вы, наверное, знаете о том, что в Петербурге, например, есть памятник Чижику-пыжику. Публика очень тепло это встречает. Любят памятник фотографу Булле, что стоит на Малой Садовой улице...
– Вы знаете, мне он не очень понравился. Форма его очень академическая, малоинтересная. Я не против памятника Булле. Но вот он стоит, похожий на эти восковые фигуры. Я прохожу иногда и думаю: «Ну хоть бы там иногда сверкал свет в окошечке его фотокамеры, ну хоть что-нибудь...»
– Я так понимаю, что вы сторонник более близкого контакта городской скульптуры и зрителя, интерактивного их общения?
– Да, чтобы человек участвовал в творчестве. И чувствовал его на самом деле. И поэтому я бы очень хотел осуществить эту работу –«1991».
– Скажите, как вы фиксируете свои проекты и идеи? Как в этих случаях обстоит дело с авторским правом здесь и за рубежом?
– В Штатах это все намного серьезней. А тут я сделал это «Разорванное кольцо», и у меня нет на нее никакого авторского права. Только стоит модель в Русском музее и в Третьяковке. Я думаю бороться с этой ситуацией. Ведь очень много сегодня есть этого фейка демократии. То, что не успела сделать советская власть, успеет сделать капиталистическая. Демократия со временем становится реакцией. Я помню случай, происшедший со мной давно-давно. Я ехал в трамвае, и передо мной сидела девушка. Я прочитал накануне в журнале «Наука и жизнь» о том, что можно вживить золотую нить в мозг человека, и человек постоянно будет чувствовать счастье. Я стал говорить об этом с девушкой, и вдруг она серьезно ко мне обернулась и сказала: «А человек долго счастья не выдержит». Когда происходит революция или переворот, общество на самом деле потрясается и получает эмоциональный подъем, радость. С обществом это происходит так же, как с человеком. А потом начинается реакция, обратный процесс. Обычно это длится, как мне кажется, 12-13 лет.
И те люди, которые появились в 1917 году... Шостакович, Маяковский, Малевич... Это же не просто так: мы идем – и вдруг взрыв. Он же начался раньше, и этот период, пока Джугашвили не пришел к власти, как раз примерно 12 – 13 лет. Уже в 1925 – 1927 годах это все закончилось. А началось все в 1909 – 1910 годах.
– Возможно, это недостатки нашего общества, которое выбирает себе власть и позволяет ей вести себя подобным образом?
– Нет, это вам так кажется. Я хорошо знаю историю Америки, и мне рассказывали, что когда президентом был Джордж Вашингтон, он был очень популярным и ему предлагали остаться на посту. Но он был одним из основателей Конституции США, и он сказал: «Я – не король» – и ушел. Если бы он этого не сказал, Америка сейчас была бы другая.
– Вы имеете в виду абсолютизм как таковой – власть одного человека. А у нас власть системы, что гораздо сильнее. Здесь как раз возникает вопрос о свободе творчества и возможности творить.
– Творчество – как дух. Власть церкви они заменили властью КПСС. А теперь церковь вернулась. Но раньше она была более чистой, чем теперь.
– Как вы относитесь к тому, что у нас сейчас есть некие государственные творцы-монополисты?
– Как к раковой опухоли. Этот Церетели... Неуемная власть денег, жадность, я бы сказал. Как можно было взять Москву и так ее изуродовать? Сделать из Манежной площади «горбушку» какую-то – это же оскорбительно. Одна журналистка сказала, что она напишет статью о том, чтобы против Церетели поставить мой «Стакан» на Красной площади. Я был бы рад.
– У вас нет желания вернуться и поучаствовать в процессе извержения вулкана, о котором вы говорите как наблюдатель?
– Если бы мне дали возможность осуществить мой проект памятника «1991», я бы вернулся, чтобы работать. А так, чтобы просто ходить по улицам... Нет, я там уже прижился.
Дарья Пиратинская,
Читайте материал в номере «Вашего Тайного Советника» за 21.08.06