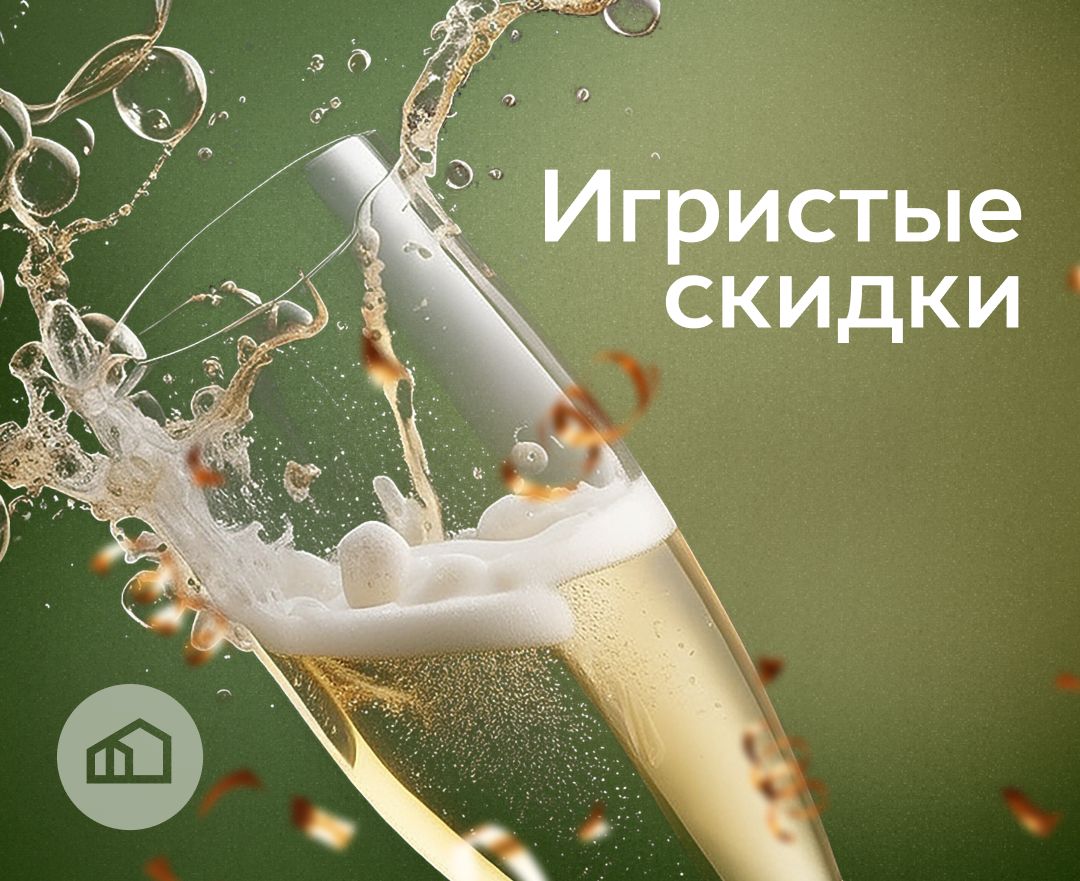На этот раз Константин Аркадьевич Райкин привез в Петербург свой театр - «Сатирикон им. А.Райкина» по приглашению только что открывшегося после ремонта «Театра эстрады им. А.Райкина». Поводом для приезда было столетие выдающегося артиста сатирического жанра Аркадия Райкина. Встретились мы с Константином Райкиным в гримерке его отца. И на какие бы темы мы ни говорили – об эстраде, демократии и диктатуре, режиссере Валерии Фокине и артисте Олеге Табакове, - в разговоре то и дело возникали «папины слова», «папин взгляд», истории «про папу». Отчего появилось ощущение четко отлаженной связи времен и поколений, которая, очевидно, и позволила Константину Райкину стать тем, чем он стал: большим, разносторонним артистом, педагогом, создателем одного из самых успешных театров страны. В самом начале разговора в гримерку вошел Юрий Гальцев, да так и остался сидеть до самого конца беседы.
- Константин Аркадьевич, раз Юра Гальцев здесь с нами сидит, начну с вопроса про нашу отечественную эстраду. Что вы думаете о ее нынешнем состоянии? И какой вам видится ее функция? Должна она «жечь сердца людей» или только развлекать?
- Мне кажется, самая большая проблема нашей эстрады – это отсутствие школы, отсутствие некоего эстрадного Станиславского, который бы подытожил и развил огромный положительный опыт российской эстрады. У нашей эстрады нет высокой режиссуры. Артисты предоставлены сами себе. Когда-то возникло такое явление искусства как русский балет – и мы в этой области стали впереди планеты всей. Почему? Потому что произошло осмысление, суммирование знаний, навыков, достижений – возникла школа балетная. Ну а потом драматическая. Эстрадные островки сейчас не собираются в материк. Поэтому неоткуда взяться особой эстрадной этике, эстетическим законам, не существует прививки вкуса. Эстрада наша сейчас похожа на вырвавшийся из чьих-то рук брандспойт – она фонтанирует бесконтрольно и, часто, бессмысленно и пошло. Приведу пример. В московском Доме актера есть традиция устраивать вечера выпускников театральных вузов – ГИТИСа, «Щепки», «Щуки», Школы-студии МХАТ. Выглядит это довольно симпатично. Но вот недавно организаторы стали туда приглашать еще и выпускников эстрадных отделений. И рядом их нельзя поставить – молодых актеров драматического театра и «эстрадников». Среди «эстрадников» есть талантливые люди, хорошо поющие, но бесвкусица и заштампованность у них страшная. Драматические ребята - они живые, естественные, свежие, настоящие, хотя иногда в чем-то и несовершенные. А «эстрадники» занимаются бессмысленной самодемонстрацией. У них сразу проявляются чудовищные, главные, махровые ошибки педагогов: ребята не понимают, зачем они выходят на сцену, они ничем не одухотворены, или цели их настолько низкие, что вообще недостойны выхода на сцену. На них сразу ракушками налипают все гадости, которые в современной эстраде есть. А ведь эстрада – это один из видов искусства со своими задачами, идеалами, сверхзадачами, окрыленностью. У нас же на эстраду выходят, в основном, некультурные люди. Я не говорю о некоторых представителях, которые являются исключениями. Юмор, да и лексикон сегодняшнего среднего артиста – невыносим. Школы нет, культуры нет.

- То есть, Юрий Гальцев, который, едва получив в распоряжение петербургский Театр Эстрады, сразу набрал курс в Театральной академии, - поступил правильно?
- Да, конечно. И надо собирать педагогов из разных городов - их не так много. На таком курсе обязательно должны преподавать специалисты по драматическому театру – нет же четкого водораздела между эстрадой и драматическим театром, они обогащают друг друга. Вот, скажем, меня вызывает режиссер Юрий Бутусов, относительно молодой человек, который у нас в театре поставил несколько серьезных спектаклей, – и дает мне по башке. И это очень хорошо: артист такой человек, который, независимо от ранга и от возраста, должен быть временами поставлен в угол и наказан. Обязательно. Без этого нельзя жить артисту. А «эстрадники» наши – они же без руля и без ветрил существуют. Даже если люди очень талантливые - я таких знаю — все равно им профессиональный режиссер нужен. А так... Один раз у артиста что-то получилось – ну, например, непосредственность – публике понравилось, и он на втором концерте уже начинает торговать этой непосредственностью. Успех – это ведь тоже вещь очень опасная. Такие надо на ушах и на мозгах иметь сита, чтобы остаться строгим к себе. Медные трубы – они сильно умасливают это наше мелкое самолюбие. Только очень немногие люди могут слушать замечания. Однажды папа в Дзинтари выступал вместе с Геной Хазановым. И спросил его: «Ген, а ты это так на сцену оделся?» Тот: «Да». «Ты знаешь, - сказал ему папа, - у тебя слишком модный костюм для этого жанра. Он отвлечет от сути. Ты же не певец. Костюм должен быть более нейтральным. Ты же занимаешься так называемым разговорным жанром». И Гена сам сейчас об этом рассказывает – он тогда понял, не обиделся. Но так реагируют немногие.
- Ваш Труффальдино из Бергамо был одним из самых любимых персонажей у моего и нескольких других поколений. В какой момент вы поняли, что не только комедийный артист, а еще и драматический, трагический?
- Знаете, у меня никогда не было такого разделения. В театре я всегда играл все. У актеров вообще нет такой терминологии.
- Но многие актеры рассказывают, что система амплуа на них давит, хотя официально в российском театре с ней уже век как борются.
- Нет, амплуа есть, конечно. Как говорил Луспекаев: «Роль должна личить». То есть, быть к лицу. Что-то мне не надо играть, я это отлично понимаю. Однажды, кстати, Олег Павлович Табаков, который относился ко мне очень хорошо – мы с ним в одной гримерке 10 лет отсидели в «Современнике» - по поводу одной роли мне сказал: «Константин, тебе это играть не надо». А у него как раз гораздо более жесткие представления об амплуа. Я говорю ему: «Так меня уже назначили». «Ну, тебе надо слинять. Эту роль должен играть красивый, статный мужик, на которого все заглядываются».
- И он оказался прав?
- Нет, в том случае он оказался не прав. В результате это у меня была одна из лучших моих ролей в то время. Режиссер Валерий Фокин со мной тогда жестко поработал. Спектакль назывался «Монумент», по роману эстонского писателя Энна Ветемаа, про партийного карьериста. Страшная вещь. Запредельно острая. Папа его однажды посмотрел, и сказал: «А я думал, что я с моим театром самый смелый!» Табаков ко мне подошел на премьере и так меня обнял, что было понятно: он признает, что я выиграл тот спор. Но вообще границы возможностей есть у каждого артиста. Хотя, повторяю, комедийным артистом я никогда себя не считал. Другое дело, что у меня есть чувство юмора – ну так это вообще одно из самых значительных, ключевых свойств человеческой натуры. Без него актер в принципе мало что может сделать. При этом с молодых ногтей я играл самые разные – глубокие, драматические роли. Именно в то время, когда я появился на экране в роли этого Труффальдино, я в театре играл «Записки из подполья» по Достоевскому у того же Валеры Фокина. Тогда спектакль посмотрел выдающийся польский режиссер Гротовский, очень высоко его оценил. И это было такое колоссальные событие в моей творческой жизни, что Труффальдино в тот момент оказался на периферии моих интересов. Это позже я уже полюбил итальянский театр – театр Гольдони и Гоцци. Я ставил их пьесы и еще буду ставить. С Труффальдино, конечно, пришла популярность, но сказать, что это стало каким-то художественным этапом в моей актерской судьбе я не могу. Хотя мне было чрезвычайно приятно работать с режиссером Володей Воробьёвым, увы, покойным. Мы тогда очень полюбили друг друга.
- А с Валерием Фокиным вам легко было работать?
- Валера вообще очень своеобразный режиссер. Но если я про какого режиссера и могу сказать, что он меня сделал артистом, - так это Фокин. Я с ним сделал 18 спектаклей – таких огромных работ. И Гамлета я у него первый раз сыграл, и «Лоренцаччо», и «Записки из подполья», и Симонова, и Гоголя, и в «Валентине и Валентине» работал. Валера, может, самый главный человек в моей жизни. Ни с кем мне не работается так легко и по-родному, как с ним. Притом, что он очень другой по своим художественным пристрастиям, чем я. Я бы даже не сказал, что он – мой самый любимый режиссер по результатам. Но он потрясающе работает, и он феноменально талантливый человек. Мы с ним очень разные, но может быть, в этом и есть объяснение нашего соединения. Иногда мы очень скучаем друг по другу – мы же еще и учились вместе. Валера – это человек невероятно ценный для театра. У него вообще очень своеобразный талант. Был такой период в моей жизни, когда я был им очень увлечен, мое сознание было им оккупировано, мне казалось, я без него ни шагу не могу ступить. Потом я понял, что могу и должен ступать без него. И что есть какая-то другая жизнь. Но Фокин по-прежнему очень многое в моей жизни означает.
- Что бы вы ответили недоброжелателям Фокина, упрекающим его в формализме, в авторитарности, в чрезмерной жесткости в работе с артистами?
- Валера действительно очень жесткий человек. Но мне кажется, что Александринскому театру, которым он сейчас руководит, он на пользу. В этот театр я приезжал на гастроли еще до прихода туда Валеры. Это, конечно, гениальное здание. Но вот знаете, у театров успешных и неуспешных есть свой особенный запах. Войдя в театр со служебного входа и принюхавшись, причувствовавшись, я могу сразу на спор сказать, успешен театр или нет. Я не о богатстве говорю. О том, что есть запах хорошего театра, театра творческого, живого – и есть запах мертвого театрального организма. Ну так вот до прихода Фокина Александринка была абсолютно развалившимся, разложившимся, старым, пыльным, мертвым театром. Потом туда пришел Валера – и я приехал, посмотрел один спектакль, другой, и обнаружил, что театр поменял запах, ауру, образ. Это стал другой – интересный, современный театр. Сюда приезжают интересные режиссеры, проходят фестивали. Тут бурлит жизнь. А то, что Валера бывает холодным, жестким – да он бывает не только жестким, он бывает жестоким. Видимо, этому театру – да и вообще театру – жесткость необходима. Тут обязательно должен быть страх. Без страха в театре ничего не получится. Без боязни быть наказанным, выгнанным, отруганным, без боязни строгого взгляда режиссера. А Валера умеет выстроить всех. Вот он входит с театр – и все шепотом передают друг другу: «Пришел, пришел, пришел». Александринскому театру такое руководство очень на пользу.
- В своем театре вы такую же роль играете – как руководитель?
- Не-е-ет, ну я не такой человек. Я - добрый диктатор. Но, конечно, все равно диктатор. А в театре иначе никак. Я вообще не очень люблю понятие «демократия». Мне кажется, это довольно фальшивая вещь. Так я на сегодняшний день думаю. Театр – это та маленькая капля, в которой весь океан общества отражается. Ну какая в театре может быть демократия? Да никакой. Ну я что, буду спрашивать у артистов, какую пьесу поставить? Нет. Если мне нужна их инициатива, я ее спровоцирую, построю репетицию так, что они будут и фантазировать, и импровизировать. Мне нужна их энергия, конечно. Но решать все буду я в любом случае. Мне кажется, так и в государстве. Во всяком случае, в нашем. Но я думаю, что в любом. Демократия – это такая игра, в которой очень много фальши и ложных ходов. Я сужу по театру. Страх, конечно, не должен превалировать в театре, как и в обществе, это не должна быть тоталитарная система – система страшных тюрем, общего концлагеря. Но то, что при виде тебя актеры должны подбираться внутренне – это факт. Они должны бояться тебе не понравиться. Они должны волноваться при тебе. И при этом, конечно надо быть добрым, великодушным, порядочным, быть верным слову. Иногда надо проявлять сантименты. Пряники тоже должны быть, кроме кнута. Непременно.
- И тем не менее, вы сказали Познеру, что ради своего театра готовы на все – и врать, и лицемерить, и лебезить, - делать то, чего бы вы не стали делать ни ради чего другого. Это почему так? Потому что театр - дело жизни? Потому, что чувствуете ответственность перед людьми, которые за вами идут?
- Потому что я люблю этот театр. Мое самолюбие там. Мне страшно сказать, но и мое здоровье в этом театре. Не то, чтобы я был серьезно болен, но какие-то кризисные моменты бывают у всех. И вот тебе врачи предлагают поехать в Альпы на полгода. Или говорят, что твоя деятельность тебе вредна. И в такие минуты понимаешь, что твое здоровье отдельно от твоей деятельности тебе просто не нужно. У Табакова на этот счет есть своя теория - про то, что любимая работа здоровит. Я уверен, что папа, будучи сердечником и очень серьезным, не прожил бы 76 лет, не будь у него театра. Его театр действительно здоровил, поднимал. У папы была знаменитая костюмер – Зина Зайцева. Это та, которая министра культуры из этой вот самой гримерки на руках вынесла. У начальства же была такая мода – перед началом или в антракте приходить к артистам. Ну и вот однажды министр пришел в антракте к папе. Зина ему: «Аркадию Исааковичу надо отдохнуть». А он все говорит и говорит. Ну и она его обхватила и на руках отсюда вынесла. Так вот Зина всегда говорила, когда папе советовали лечь в больницу: «Да зачем ему больница, он там сейчас разболеется. В театре надо лечиться». И правда, как только отец приходил в театр, это его бодрило, собирало – и болезни отступали. И это совсем не высокие слова, а очень конкретные вещи.
- А какова на ваш взгляд роль директора в современном театре? В последнее время - вы в курсе, конечно, - по стране участились случаи скандалов, в которых директор и художественный руководитель находятся по разные стороны баррикад. И побеждают, конечно, директора.
- Мне не кажется, что это закономерность. Просто речь идет о каких-то плохих театрах, неверно организованных. Очень важно, чтобы директор в театре был при художественном руководителе, а не наоборот. Директор – это человек, который обслуживает художественные замыслы, а не художественные замыслы должны обслуживать какие-то директорские амбиции.
- Вот вы сказали, что театр сейчас играет совсем не ту роль, которую играл в «папины времена». Действительно, театр тогда был единственным местом, где единомышленники, в том числе, и вольнодумцы могли собираться вместе и общаться на эзоповом языке.
- Некоторые театры и сейчас на это могут претендовать – во всяком случае, у определенного круга людей. Я знаю, что в «Мастерскую Петра Фоменко» так люди ходят. Могу взять на себя некоторую смелость и сказать, что и к нам люди так же ходят, у нас есть такие постоянные зрители. Я их понимаю, потому что считаю – хотя, возможно, в этом мое заблуждение, - но я считаю «Сатирикон» в некотором смысле, по некоторым параметрам лучшим театром страны. Например, по работоспособности труппы. Не зря у серьезных режиссеров – у Роберта Стуруа, у его младшего коллеги Юрия Бутусова - именно в «Сатириконе» выходят их лучшие спектакли. А почему у Петра Фоменко здесь вышел в свое время просто шедевр - «Великолепный рогоносец»? Да потому что здесь у нас люди все силы кладут на то, чтобы получилось. Здесь нет других амбиций, нет других соображений, кроме художественных. В «Сатириконе» есть качество, культура, самоотверженность, добросовестность театрального дела. Что-то здесь может нравиться, что-то нет – но то, что каждый спектакль в нашем театре делается с огромной отдачей, - безусловно. Да, сейчас нет такого повального увлечения театром. По статистике в театр ходит 6-8 процентов населения города. То есть, 90 с лишним процентов людей в театр не ходит никогда. Так устроена жизнь – причем, в любом городе мира это так: людей, тонко чувствующих, всегда будет значительно меньше, чем людей, грубо чувствующих. Театр – это же еще особая потребность души, определенный опыт: так же сразу театр не воспримешь, надо что-то уже знать, о чем-то подумать. Я тоже в свое время думал: да какая живопись, когда кино существует! И вдруг в какой-то момент жизни я осознал, какой я идиот: мгновение жизни, остановленное кистью художника, - оно же бездонно и бескрайне. Ты можешь углубиться в это мгновение именно потому, что оно остановлено. Поняв это, я вдруг стал дико увлекаться живописью. Это я все-таки человек из довольно образованной семьи – и тем не менее вот такой глупостью я был долго поражен. Что же говорить о других. Поэтому круг театралов сузился. Вариантов развлечения-то много, искушений много – и дьявол не дремлет: он, как всегда, очень изобретателен.
- И выбирает массовый зритель, конечно, не театр, где, чтобы получить удовольствие, надо думать, работать. Выбирают чистые развлечения, где всё и даже больше дается без усилий. Поэтому и не может быть театр самоокупаемым. И в интересах властей его поддерживать, как поддерживается искусство во всех цивилизованных странах. Иначе происходит утечка мозгов. Ведь так?
- Утечка тут неточное слово. Мозги – они упускаются. Тут дело не в том, что люди куда-то уезжают. А в том, что люди теряют навыки мыслить. И мозгами, и душами надо заниматься. Это должна быть самая главная работа людей, облеченных властью – образование, наука и культура. Потому что дать свободу людям, чьи души и мозги работать не умеют, - все равно, что дать свободу в тюрьме. Для некультурных людей свобода – это свобода грабить, убивать, хамить, клеветать. Свято место пусто не бывает. Как только в мозгах образуется пустота, - там поселяется дьявол. Национализм – это дико манкая вещь. На Манежную площадь выходят вот такие упущенные государством люди.
Беседовала Жанна Зарецкая,
«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Садчиков