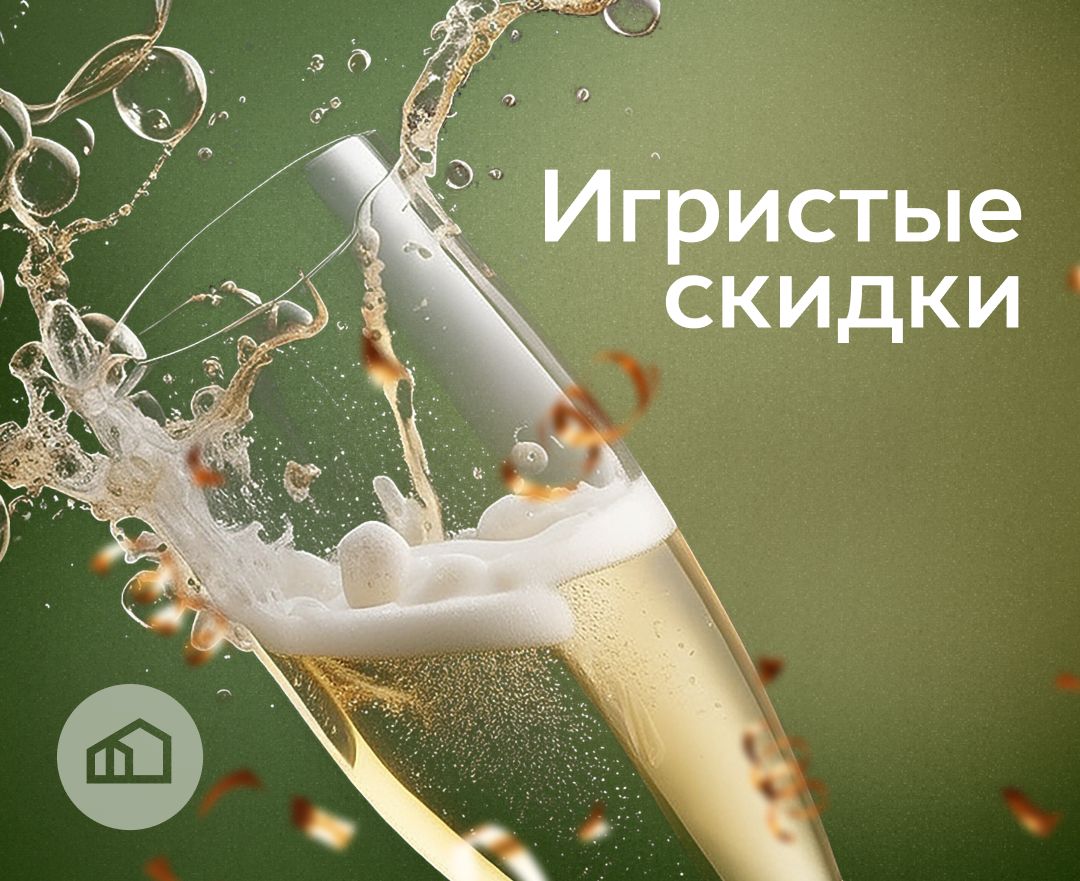5 и 6 августа Театр поколений, созданный легендарным режиссером Зиновием Корогодским и ныне возглавляемый его сыном Данилой, в своем новом здании на Лахтинской улице проводит открытые для зрителей репетиции спектакля «Дачники» по мотивам пьесы Горького. Спектакль обещает быть смелым экспериментом, а работают над ним сразу три постановщика: сам Данила Корогодский, немец Эберхардт Кёлер и американец Кристофер Баррека. О том, как негосударственному театру непросто выжить, и о будущем спектакле «Фонтанка» поговорила с Корогодским и Кёлером.
– Данила Зиновьевич, труппа, которой вы руководите, занимает особое место на петербургской театральной карте. Не имея государственного статуса и субсидий, вы умудряетесь не только существовать и выпускать премьеры, но и самостоятельно находить себе площадки – а для многих это неподъемный камень преткновения. Как это получается у вас?
Корогодский: А черт его знает, как. Я чураюсь в таких вопросах слишком внятных определений. Ну, легко сказать, конечно: вот Данила Корогодский, он в Америке живет, там и нажил себе какие-то особенные правила автономного существования. Может, и это какую-то роль играет. Но дело не только во мне, а, наверное, в тесной системе наших человеческих связей, тех, кто во всем этом участвует. Сложилась компания таких, условно говоря, сумасшедших, которые подписали джентльменское соглашение вместе работать. Театр, который мы строим, – это театр репертуарный. Хотя любой экономист вам скажет, что как раз этого делать и не следовало бы: это сложно и невыгодно. Сейчас идея репертуарного театра потихоньку уже уходит в прошлое. Но мы по старой привычке продолжаем на это давить. И тут, как в шахматной комбинации, есть непреложное условие – такому типу театра нужна площадка. Если постоянной площадки нет, количество трудностей многократно увеличивается.

– Давайте по порядку. Раньше у вас была сцена в Петропавловской крепости, в Нарышкином бастионе? Там вы как оказались?
Корогодский: О, там забавная интрига. Я знаю Ивана Корнеева, потому что его отец много лет работал с моим отцом, был директором Ленинградского ТЮЗа. А у меня как раз возникла такая мысль, что здорово было бы организовать театр под эгидой музея: такая распространенная в мире практика. Вот Вера Бирон, которую я тоже знаю много лет, еще со времен тюзовского Делегатского собрания, подобный театр в Музее Достоевского создала. А Корнеев как раз возглавлял петербургский зоопарк, который по странной административной логике у нас считается музеем. И понятно было, что театру с проспекта Обуховской Обороны, где он прежде был прописан, надо валить: не то место, куда пойдет широкий зритель. И вот я Ивану с таким вопросом, к какому бы музею обратиться, и позвонил. Сказал ему про Петропавловку: я же знаю, что в этом гигантском комплексе масса пустующих помещений. А Иван отвечает: хорошо, пошли в Петропавловку к директору, к Борису Аракчееву. Я к Аракчееву пришел в кабинет, что-то такое ему начал рассказывать, а он меня останавливает со словами «Я уже сорок лет здесь пытаюсь театр организовать, за руку людей приводил, но на какие-то разовые акции все согласны, а чтобы осесть здесь – никто не готов. А крепость – это же мини-модель города, тут всё должно быть как в городе, и театр в том числе». И Аракчеев позвал какого-то дядьку, тот явился с ключами, мы подошли к Нарышкину бастиону – там даже двери не было, внутрь пришлось проползать. Огромное пустое помещение – я сказал: нам это подходит. «Вы с ума сошли, тут нет электричества, нет воды, нет тепла, ни хрена!» Ну, мы купили стройматериалы, сделали там ремонт и открыли театр.

– Который потом вынуждены были закрыть.
Корогодский: Времена изменились. В Петропавловку любят всякие сановные лица заходить и с возвышения у кроншпица умиленно обозревать увеселяющийся народ. Ну и сзади за ними, если вдруг им захочется оглянуться, должен быть подобающий их величию марафет. А у Аракчеева марафета не было – он пытался археологический культурный слой сохранить. И в крепость назначили новое руководство. Половина крепости там по-прежнему пустая и затопленная, но на первый взгляд – всё в ажуре. Потом случилась эта дикая история с «Хромой лошадью» в Перми. Я когда увидел это по телевизору, сразу понял, что дальше будет: назавтра придут под этим предлогом нас закрывать. И они пришли. Сказали: «В 24 часа чтобы вас здесь не было». Я их уговорил, чтобы нам дали три дня вывезти из бастиона декорации, реквизит и технику. И мы не успели оглянуться, как оказались на улице. Скитались по арендным площадкам: ТЮЗ, «Балтийский дом». «Газели» у нас нет, всё надо на своем горбу носить – это процесс, конечно, во сто крат утяжеляет. И я своим говорю: ребята, надо искать какое-то заброшенное индустриальное пространство. Искали, искали, ходили, тыркались. И так нашли помещение на Лахтинской улице – заходим, ага, странная такая атмосфера, такой андеграунд-авангард. Понятно, что у нас к этому не привыкли совсем. В России даже продвинутая молодежь в театр «отдыхать» ходит – хочет, чтобы какие-то были бра, какое-то «фойе» с «красотой». Странное свойство, малообъяснимое.

– В Америке дело обстоит иначе?
Корогодский: Я в Нью-Йорке делал спектакли в таких местах, что, по сравнению с ними, у нас на Лахтинской просто дворец. И там не просто иначе, а ровно наоборот: некая «подпольность» – знак привлекательности, люди на это идут. Так вот. Нам деваться было абсолютно некуда, и мы туда, на Лахтинскую, влезли. 13 октября прошлого года. Это тоже, конечно, аренда, платим деньги ежемесячно, но это всё же место, это дом, где можно работать, можно какие-то планы строить. Ну я пытаюсь разговаривать с городскими властями, с Антоном Губанковым, с ним можно разговаривать: не исключено, они как-то помогут.

– «Дачников» Горького не все читали, не все помнят, о чем там, зато многие уверены, что это пыльная классика, которую надо ставить очень скучно и в исторических костюмах. А у вас какие-то дерзкие идеи, обещаны элементы хеппенинга, три режиссера участвуют в проекте – двое из них иностранцы. И исторических костюмов нема. Как так?
Корогодский: Да какая же она пыльная? Понимаете, ведь совсем немного лет прошло, это же фактически о нас написано. Это современная драматургия, если заглянуть в корень, а не блуждать по поверхности. Зачем тут нужна эта странная декоративная рамка: вычурные костюмы, гитары, цикады? Почему у немцев получается ставить Чехова или Горького про их сегодняшние проблемы, про их исторические вины, про их дела, а мы не можем?

– А если не можем?
Корогодский: Но пробовать-то надо. И сложная структура нашего проекта есть некая попытка, пусть даже формальная, освободиться от каких-то давно потерявших смысл правил. Как-то так, а потом посмотрим, чем дело кончится. Это во многом интуитивный путь. Не то что церебральная, надуманная конструкция: собрались, три режиссера, поделили пьесу. Нет, во многом это интуитивное движение.
Кёлер: Обычно кооперация постановщиков означает напряженный поиск единого ключа к материалу, поиск единого мнения по каким-то сущностным вопросам. А с «Дачниками», с этой пьесой, нам показалось интересным разделить ее на части, чтобы каждый работал со своей частью независимо: чтобы не было среди нас кого-то главного и не было непременного стремления к единству подхода. У каждого режиссера свои автономные права, и у всех они равны. Мы сейчас живем в довольно сложное время, еще 20 лет назад всё было как-то проще, «черное» – «белое», «доброе» – «злое». Мы уходим от лобовых антиномий, и надо искать более сложные подходы к материалу.
Корогодский: Да, именно так. Вот мы сейчас наблюдали эту жуткую, стыдную историю в Театре на Таганке. Можно там искать правых и виноватых, но важнее другое – симптом. Символы прошлой театральной эпохи уходят в прошлое. И лобовой, однолинейный взгляд на вещи уходит в прошлое, в том числе.

– Но я всё же не понял до конца, о каких сегодняшних проблемах вы ставите «Дачников».
Кёлер: Вот сейчас между нами начнутся разногласия.
Корогодский: Я по рождению и воспитанию человек русской культуры, но так уж сложилось, что много времени провел на Западе. И до сих пор много провожу, катаюсь туда-сюда. Есть во мне в связи с этим некая раздвоенность, которая, быть может, позволяет острее чувствовать какие-то вещи, национальные свойства. И меня мучает пресловутая вина русской интеллигенции, связанная с присущей ей склонностью к эдакому «болтологизму». А при этом неспособность к действию. Я это и в себе нахожу. И что это за такая душевная трещина, которая заставляет нас говорить, говорить, но не делать, откуда она, с чем связана? Ведь Горький явно полемизирует с «Чайкой», с чеховскими словопрениями.

– Ну не только с «Чайкой». Марье Львовне, допустим, говорят, что у нее «красивые волосы», как у Сони из «Дяди Вани».
Корогодский: Да, много там всего. И остаются вопросы, в частности, поставленные в этой пьесе и порождаемые ею, если мы посмотрим на нее в исторической перспективе – ведь пройдет 15 каких-то лет, и в стране начнется страшная заваруха, кровавая баня, и этих самых дачников сметет кровавая жатва. Есть в этом их вина? В чем их ошибка? А ответов по сей день ведь нет. Оттого, что мы перестали задавать себе вопросы, проблемы-то никуда не делись. Ответов нет, за преступления былых времен никто не попросил прощения, и так всё и продолжается, как ни в чем не бывало. Болезнь только загоняется внутрь, и от этого больше неразберихи в умах и душах. Хочется как-то взбудоражить зрителя, заставить размышлять. Это, конечно, амбициозные цели. Ну вот мы такое, скажем, хотим попробовать. Идет драматическое повествование, которое вдруг прерывается, и выходит человек с папочкой, и начинает читать некий очень болезненный текст, эссе профессионального политолога Дины Хапаевой о русской истории XX века. Я же со своими ребятами-актерами в театре разговариваю. Спрашиваю про Вторую мировую войну. Есть такие, которые просто ничего не знают: не то, что оценить не могут какие-то события, они о событиях этих никогда не слышали. Люди не слышали о том, что война началась в 1939 году, не слышали о разделе Польши между СССР и нацистской Германией. Не знают, что такое Берлинская стена. Здесь, понимаете ли, и просвещение нужно, и театр обязан этим заниматься.

Кёлер: Увы, идея политического театра, театра, который апеллирует к гражданскому чувству, на бывшей советской территории скомпрометирована. Сразу вспоминают агитпроп – и того же самого Горького, кстати, поминают недобрым словом. А с другой стороны, политическую актуальность тех же «Дачников» невозможно игнорировать. Ведь это не только для России типично: подавляющее большинство, как герой пьесы Суслов, стремится отгородиться от социальной реальности, относится к ней подчеркнуто цинично, а свято чтит только одно – свое право на отдых. На Майорке, на Кипре, в Греции, за закрытыми дверями квартиры. Столько всего произошло в мире, а тот же самый класс «дачников» снова явился и очень веско заявляет о себе. И может быть, они окажутся в зрительном зале. Я не хочу менторствовать перед ними, не хочу их ничему учить, но не исключено, что они сами поймут что-то про себя.
Андрей Пронин,
«Фонтанка.ру»
Фото: pokoleniy.ru.
О других театральных событиях в Петербурге читайте в рубрике «Театры»