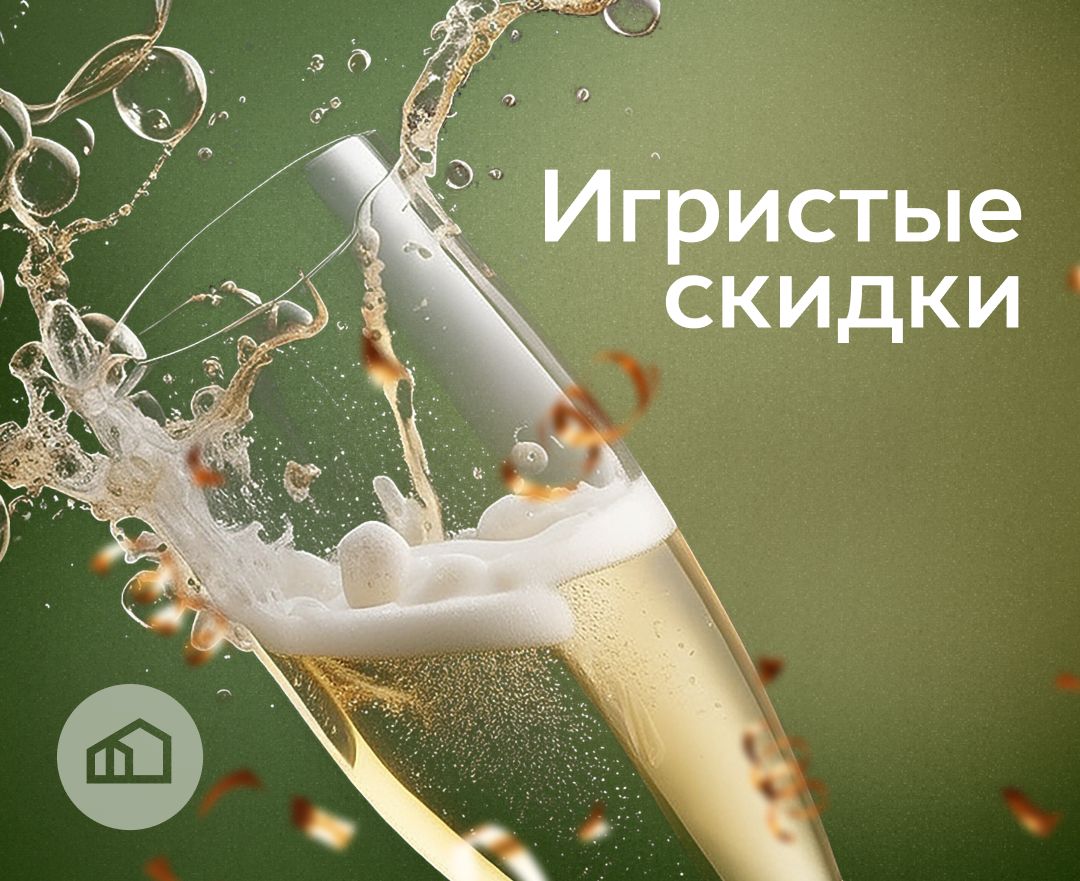Проводящийся театром «Балтийский дом» Второй всероссийский театральный фестиваль «Дуэль», посвященный 150-летию со дня рождения А.П. Чехова, продолжается давно ожидаемой премьерой. После трех лет репетиций Лев Эренбург выпускает «Трех сестер» – второй чеховский спектакль в репертуаре Небольшого драматического театра, позиционирующего себя как «НеБДТ». О своей новой работе Лев Эренбург рассказал корреспонденту «Культурной столицы».
– НДТ всегда существовал в лабораторной резервации, несколько обособленно от театрального процесса. Но до вас наверняка доносились разговоры о том, что Чехов и современный театр, видимо, устали друг от друга – как-то не случается больших побед. Что вы на эту тему думаете?
– Думаю, что проблема не в современном театре и не в Чехове, а в дурных головах. Чеховский материал способен поворачиваться бесчисленным количеством своих боков – и в этом смысле он, как и любая классика, неисчерпаем. А когда говорят про усталость – мне кажется, это понты. Я нарочно употребил это слово. Ведь каждый режиссер всё равно ставит Чехова или Толстого сквозь призму самого себя. И если нет этой призмы – ну что же, иди к доктору.

– Повлияло ли на вас что-то из театральной чеховианы? Или, может быть, какой-то спектакль по Чехову особенно сильно потряс?
– Ничего. Вообще. Я ничего хорошего не видел. Не удивляйтесь, пожалуйста. В моих словах нет никакой фанаберии. Театральных потрясений, не персонифицированных по авторам, в принципе немного. А с Чеховым просто не случилось. Не судьба. Слишком сложный материал.
– К разговору о материале. Почему после «Иванова» вы взялись именно за «Трех сестер»?
– Они мне нравятся. Больше других чеховских пьес. Особенно жестокой правдой про человека. В «Трех сестрах» Чехов нескончаемо жестоко говорит о способности человека обманываться, о том, как он обманывает себя и других.
– Вы очень часто дописывали или переписывали пьесы, которые ставили. Как-то раз вы обмолвились, что «готовы пожертвовать буквой для приближения к духу». Пришлось ли жертвовать чем-то в «Трех сестрах»?
– Совсем немногим. По моим ощущениям – в пределах дозволенного. С годами мне вообще меньше хочется хулиганить с текстом. Хотя под тезисом, который вы справедливо озвучиваете, я и сегодня подписываюсь. Текст – элемент формы. А форма устаревает прежде всего. И я бы процитировал здесь учителя моего учителя, известного мхатовца Андрея Лобанова, который говорил, что дотошное следование тексту автора – такой же грех, как бессистемное им манкирование. Текст – важнейший ориентир. Я люблю повторять слова Андрея Александровича Гончарова, который считал, что ремарку автор пишет для того, чтобы режиссер понимал, что он имел в виду, а не для того, чтобы слепо ей следовать. С текстом, как мне подозревается, всё точно так же.
– Какие метаморфозы пережила пьеса при переводе с литературного языка на язык сценической драматургии?
– Взять хотя бы самое начало. Понятно, что в сегодняшнем театре ставить его таким образом, как указано в ремарке Чехова – три сестры стоят в разных платьях и что-то говорят в зал, – нельзя. Я должен найти, гм, нечто драматургически… (очень длинная пауза) …взрывающее, то, что заложено Чеховым на уровне абстрактного размышления в первой сцене. Нужно понять, что происходит. Дурак бы я был, если бы поставил трех девиц в разных платьях спинами друг к другу и заставил их бакланить в зал чеховский текст.
– Кстати о тексте. Вы же его многократно читали, не раз слышали в спектаклях. Понятно при этом, что, читая вновь, – открываешь заново. Какое из открытий в «Трех сестрах» было для вас самым существенным?
– Что меня больше всего взъерошивает в пьесе? Пожалуй, то, как Ирина убила Тузенбаха. То, насколько она знала, что убивает его.
– А знала ли?
– Это вопрос непростой. Думаю, что знала – если считать знанием то, что там, в душе, на самом донышке. Если вы спросите меня, знает ли главная героиня «Поединка», что она отправляет Ромашова на смерть, то я отвечу, что знает. А в случае с Чеховым – затрудняюсь ответить. Сказать «не знает» – язык не поворачивается. Тогда, с моей точки зрения, пьесы нет. Вероятно, Ирина знает, но всё время подвирает себе – «авось пронесет», «а вдруг не убьют», – как это обычно бывает с девушками.
– Продолжая тему мужского и женского: театровед Алексей Бартошевич замечательно сформулировал, что у традиционного Чехова «ниже пенсне ничего нет, пусто». А спектакли вашего «НеБДТ» всегда отталкиваются как раз от того, что «ниже пенсне»…
– Чехов лишен телесности только в убогой, школьно-театральной традиции. Всё это брехня. Вспомним историю Вершинина и Маши – она же насквозь пропитана мужским и женским! А взаимоотношения Ирины и Тузенбаха пропитаны и любовью, и отсутствием ее, и жаждой ее, и смертью. Почитайте чеховские письма – там ведь всё пропитано его телесной яростью… Хотя чувственнее Чехова есть, конечно, писатели в русской литературе. Я думаю, что это Бунин, Толстой и, как это ни покажется вам странным, Горький…
– …что убедительно доказывает ваш спектакль «На дне»?
– Ну (машет рукой), У Горького, разумеется, всё прикрыто разного рода одеждами. Но за ними бьется такой сексуально-эротический нерв! А если возвращаясь к Чехову… У него есть рассказ «Катастрофа», у Толстого – рассказ «Дьявол» (обратите внимание на эти различия в названиях). Они удивительно похожи – и по содержательной направленности автора, и по количеству чувственности на квадратный сантиметр. У Толстого молодой и счастливо женившийся барин с женой и ребенком возвращается к себе в имение и встречает там деревенскую девчурку – свою крестьянку, с которой он когда-то был в связи. Возбуждение охватывает его такое, что он пускает себе пулю в лоб, не в силах с ним справиться. С одной стороны – нравственное преступление, с другой – невозможность жить без телесности. Но это Толстой – можно не удивляться: он хоть и зеркало русской революции, но в то же время и автор «Крейцеровой сонаты». В рассказе Чехова речь идет о муже, жене и пришедшем к ним в гости друге. Страсть сваливается на него и жену так, что происходит катастрофа. Чехов поприкрытее Толстого – но им движет тот же нерв сумасшедшей чувственности. Мне кажется, был прав покойный Локшин, написавший в монографии о Толстом и Чехове, что «оба они были удивительно чувственными, каждый на особинку». Они как-то во взгляде на Бога разбегались, а во взгляде на женщину были идентичны.
– В «Трех сестрах» существует извечная чеховская проблема жанра: c одной стороны он писал «пьеса выходит мрачнее мрачного», с другой – указывал Книппер (актриса МХТ, жена Чехова, исполнительница роли Маши в «Трех сестрах» 1901 года. – Прим. ред.): «Не делай печального лица ни в одном акте». А у вас, кого бы ни ставили – Ануя ли, Горького ли, Чехова ли, – всякий раз выходил трагифарс.
– Что касается Чехова – «Три сестры», конечно, комедия. А то, что я повторяюсь в смысле жанра… Я не обиделся. Я повторяюсь не только в смысле жанра, но и в смысле мотивов, и в смысле мест действия, и в смысле драматургии – по разным причинам…
– То есть параллели между мхатовской «Вассой Железновой», вашим последним спектаклем, и более ранней магнитогорской «Грозой» были сознательными?
– Нет. Бессознательными. Был бы поталантливей – не повторялся бы вовсе. Но меня утешает пример великих мастеров: Феллини, вот, тоже всю жизнь повторялся. А как еще? Ходишь ведь по одной и той же территории, которая называется собственная жизнь. А она, при всей ее кажущейся бесконечности, территориально все-таки ограничена. Поэтому я повторялся, повторяюсь и буду повторяться.
– Раз уж мы заговорили о «Вассе Железновой», не могу не спросить вас о продолжении сотрудничества с МХТ. Из Москвы упорно доносятся слухи о вашем желании поставить там «Ревизора».
– Не скрою, снова поработать с МХТ было бы интересно. И да, мне хотелось сделать «Ревизора». Но сейчас уже не хочется. Заманчиво – но я не представляю, как это сегодня ставить. Если в сегодняшнем «Ревизоре» нет ревизии – в нравственном смысле, если ревизор - это не Господь Бог (я говорю в расширительном смысле), то тогда нет истории. А как это сделать, я не понимаю…
– В финале «Трех сестер» Маша задается вопросом, «зачем мы живем и зачем страдаем». Знаете ли вы на него ответ?
– Я знаю, что в конце любого спектакля должна, как говаривал покойный Андрей Александрович Гончаров, «загораться свеча». Она загорается в финале какого-нибудь «Волшебника Изумрудного города» – но и в «Смерти Ивана Ильича», если бы повесть Толстого была поставлена на театре, свеча тоже должна была бы быть… Обжигать должно в финале. Я помню, как в детстве отец читал мне «Записки сумасшедшего». На меня, ребенка-дошкольника, очень сильное впечатление произвел финал: Поприщин летит над мазанками, «Матушка! пожалей о своем больном дитятке!» – и тут же: «А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?». Я был настолько впечатлен, растроган и расстроен, что в ярости сказал отцу: «Хоть бы он сам сошел с ума!» – имея в виду Гоголя. «А он и сошел с ума», – ответил мне отец. Я вот думаю сейчас – это ведь была свеча. Раз я пришел в ярость, жалел Поприщина, негодуя на автора, который написал такой финал – значит, я обжегся?
Дмитрий Ренанский
«Фонтанка.ру»
О других театральных событиях в Петербурге читайте в рубрике «Театры»