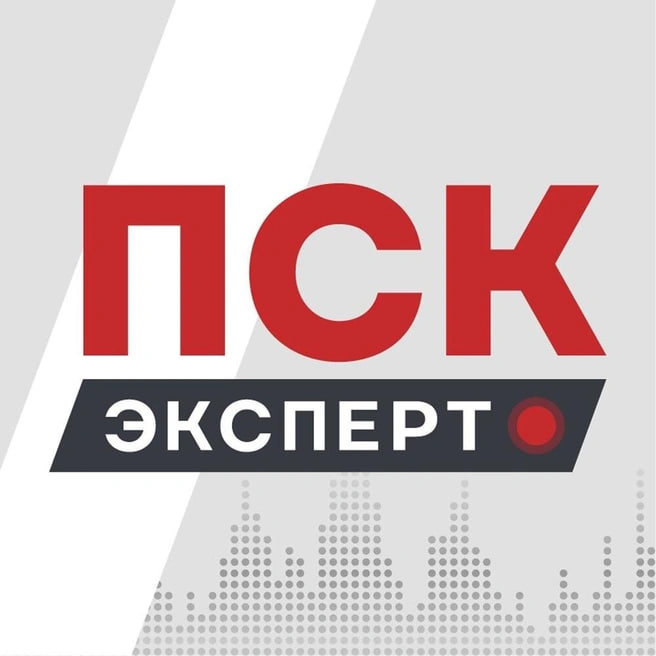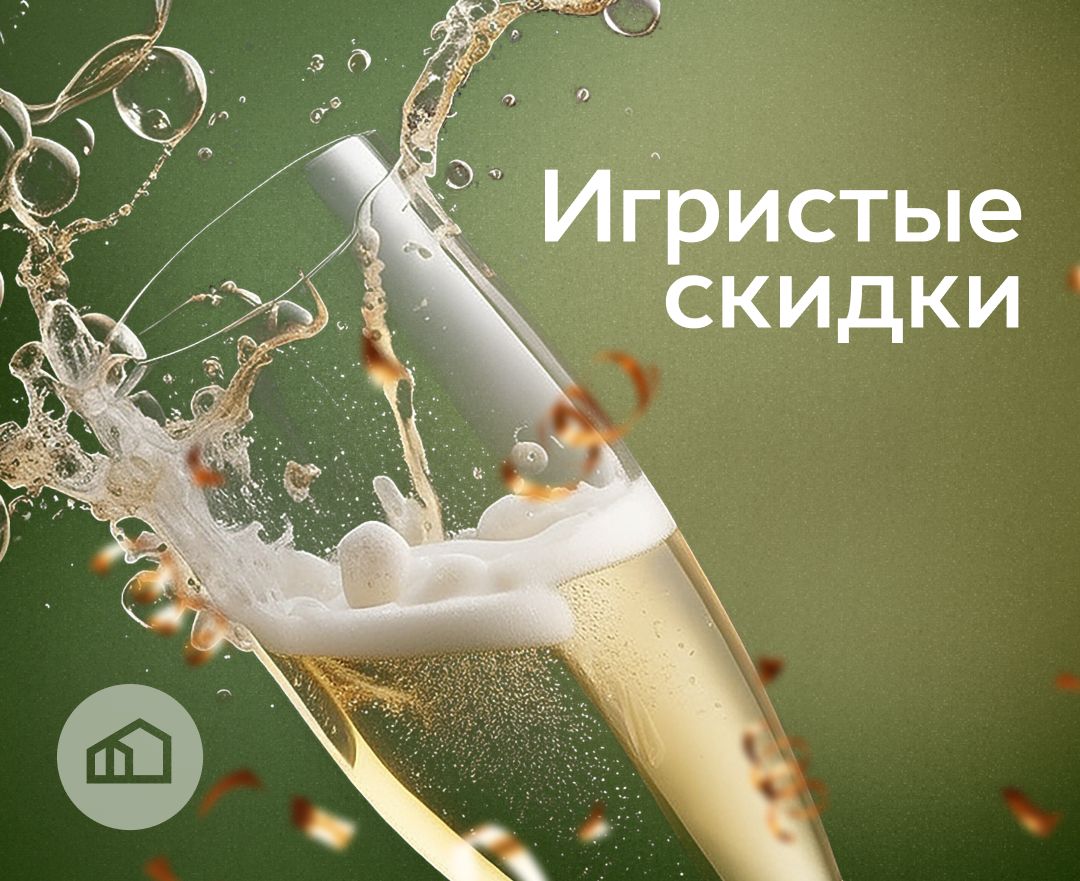Этот исповедальный рассказ был записан 15 лет назад и ведется от лица пережившей блокаду ленинградки Евгении Александровны Рудник, к сожалению, ушедшей из жизни четыре года назад.
Впервые рассказ был опубликован в сборнике «Ребенок. Женщина. Война», созданном усилиями двух подвижников – петербурженки Натальи Багровой (филолог-германист, переводчик, литератор) и немца, доктора Холгера Брюкеля. Отец последнего во время войны воевал под Сталинградом, потом находился в советском плену, а вернувшись домой, дал наказ своему сыну: «Когда подрастешь, в знак покаяния перед Россией, которой мы принесли столько горя, помоги русским, чем сможешь»...

Изданный на двух языках, сборник «Ребенок. Женщина. Война» представляет собой собранные воедино воспоминания людей, стоявших в годы войны по разные стороны линии фронта. Среди героев этой книги – жители Петербурга, Всеволожска и немецкого города Эттенхайма (как чудом выжившие дети-блокадники, наши девушки и парни, угнанные в немецкий плен, так и немецкие юноши, попавшие в последние дни войны на Восточный фронт, угодившие в плен и определенные на восстановительные работы).
К сожалению, изданный и без того мизерным тиражом, сборник после 2005 года не переиздавался. И вот сегодня, в день скорбной даты, День памяти жертв блокады Ленинграда, с согласия авторов – Натальи Багоровой и доктора Брюкеля – «Фонтанка» публикует одно из вошедших в книгу свидетельств очевидца страшной блокадной поры.
Вспоминает Евгения Рудник (собственноручные письменные воспоминания; стилистика, пунктуация и орфография автора сохранены. – Прим. ред.):
«В июне 1941 года – мне 16 лет. Окончен 9-ый класс, переведена в последний 10-ый – по поводу чего радуемся, празднуем и … вдруг!!! 22 июня 1941 года объявлена война с дружественной Германией! Цепко держится иллюзия, что «все станет на свое место», но такая «психология» первых месяцев войны была сметена массированной бомбежкой 6 сентября и – повторно – 8 сентября 1941 года, когда были уничтожены запасы продуктов в Ленинграде – сгорели Бадаевские склады.

Город в блокаде: по продуктовым карточкам практически продавали только хлеб, порция которого к ноябрю-декабрю 1941 дошла до 125 граммов на иждивенца. Смертельная доза! Ели то, о чем сейчас вспоминать не хочется.
Блокадную квартиру трудно описать, так как 30-градусные морозы уничтожили всю санитарную технику. Люди не мылись, от холода спали не раздеваясь, в одежде. Заказные железные печки – «буржуйки» – топили мебелью, книгами, паркетными полами. Все потребности заострились на хлебе, тепле, воде.
Голод изменял людей не только физически – он менял весь душевный облик. Изнуряюще действовали темнота и обстрелы. Появились признаки алиментарной дистрофии, которая выражалась в истощении, апатии, отеках и физиологических нарушениях. Хотелось спать, лежать и не вставать…Выручали великолепные радиопередачи: музыкальные и литературные, которые на время отвлекали от голода и вселяли надежду на выживание.
Меня спасла работа во фронтовом эвакуационном госпитале № 1014, куда я поступила санитаркой на казарменное положение с получением рабочей карточки (500 грамм хлеба). В госпитале работала моя мать, тоже истощенная, но вместе стало легче и, главное, теплее. Не надо было ежедневно ходить через обледеневший город, растрачивая энергию и силы. Огромное значение имел коллектив – делились всем, чем могли.
Работа вначале казалась каторгой: ноги были «ватные», движения медленные. Понемногу свыклась с нагрузкой: мытьем и чисткой туалетов, полов в отделении, а при поступлении раненых – выгрузкой их из транспорта на носилках в приемное отделение для сортировки и оказания медицинской помощи. Госпиталь был многопрофильный, но оставались на лечение только нетранспортабельные раненые и больные. Тяжелейшие ранения – урологического профиля, и раненые в голову, которым требовалась помощь нейрохирургов, отоларингологов, иногда офтальмологов и стоматологов.

В ноябре 1942 года я надорвалась на выгрузке раненых – подвело кровотечение из правой почки. Меня перевели на работу в медицинскую часть госпиталя медицинским статистиком, одновременно 1-2 раза в неделю я выполняла роль секретаря военно-врачебной комиссии (ВВК), где выздоравливающих комиссовали на годность к строевой службе.
Комиссованных я сопровождала с документами во фронтовой эвакопункт, часто прячась с ними по дороге от обстрелов, которые велись со стороны Пулково. В наш госпиталь было 33 прямых попадания, и одно из них – в нашу медицинскую часть, но, к счастью, снаряд пролетел по высокому потолку и вылетел за пределы госпиталя. Однако были контуженные. Меня в этот момент в медицинской части не было.
Далее… работа, работа, работа до конца войны.
После войны я заочно закончила 10-ый класс и в 1950 году – медицинский стоматологический институт: стала врачом-стоматологом. Но! Всегда помню об «их Величестве» Голоде, Холоде и о Хлебе – источнике жизни и сил человека.
Целиком описать страшную блокадную жизнь невозможно и, извините, не хочу дважды переживать, то, что с трудом пережито с потерей родственников, друзей и собственного здоровья.
Чего стоила только чистка дворов к весне 1942 года, когда во избежание распространения инфекций мы скалывали лед, состоявший из всего того, что должна была принять в себя канализация, и в толще его обнаруживались трупы замерзших и засыпанных снегом людей.
Во все времена войны не приносили людям ничего, кроме бед!
....

Рассказывает Наталья Багрова:

«Работая над книгой и собирая материалы для нее, у некоторых своих героев я побывала дома. Естественно, за чашкой чая рассказы о судьбах продолжались. И вот что поведала мне Евгения Александровна дополнительно к своему письму:
«Наша семья (Рудник. – Прим. ред.) жила на улице Чайковского, дом 42. Квартира была коммунальная, но жили в ней мы и наши родственники. Находилась она на пятом этаже.
Очень нам помогла одна знакомая, уезжавшая в санаторий и разрешившая пожить в ее двух комнатах на первом этаже, с тем чтобы мы присмотрели заодно и за ее вещами. Теперь прямо под нами был дровяной склад, и у нас не было больших проблем с отоплением. А ведь не только голод, но и холод были тогда нашими злейшими врагами. Вскоре из двух комнат мы переселились в одну — так было теплее. На «буржуйке» готовили «еду», грелись от нее. Иногда поднимались к себе в квартиру, чтобы поискать, не осталось ли чего съестного в шкафах на кухне.
По дому было организовано круглосуточное дежурство, к которому привлекались и подростки, в том числе я. Однажды, будучи дежурной, сидела я в служебной каморке. Топилась буржуйка. Пришла сотрудница из ЖАКТа и сказала, что скоро придет квартальный, так как квартира номер 10 на первом этаже (мы жили напротив — в квартире 9) «под подозрением». Чтобы меня не травмировать, на осмотр ее меня потом не взяли, но судя по словам квартального, «Надо всех выносить…», вымерла вся большая коммунальная квартира. Мороз не допустил гниения… Трупы в городе были повсюду. На них уже почти не реагировали…
Раз в три дня я ходила за несколько километров к маме на Мойку, где она работала в госпитале. Приносила с собой баночку, куда она мне накладывала каши.
Проходя по пути к маме мимо универмага Гостиный Двор, видела, как он много дней горел, но никто его не тушил. Очевидно, было нечем. Так сам и потух, когда огонь, вероятно, дошел до камня…
Мама отдавала мне свою кашу, которую получала в госпитале в качестве питания. А я и не понимала, что отрываю от нее. Вскоре мама ослабела и слегла. Однажды начальник госпиталя вызвал меня к себе, строго поговорил и предложил работать у него санитаркой. Я согласилась. Когда поступила в госпиталь, довольно быстро стала поправляться — молодой организм брал свое.
Сортировка вновь поступавших раненых в госпитале проходила очень быстро: входила в помещение, где они лежали, и говорила: «Кто хочет есть, берет котелок и за мной в столовую!» Многие поднимались, и за считаные секунды становилось ясно, кто «наш больной» (лежачие), а кто поедет в другой лазарет… Зимой во дворе госпиталя складывали штабелями трупы умерших воинов. Больше их хранить было негде.
Начальник госпиталя был хорошим хозяйственником и многим тогда не дал умереть. Весной 1942 года он получил в Озерках, пригороде Ленинграда, участок земли, чтобы на нем что-нибудь сажать. Хозяева участка, очевидно, уехали в эвакуацию. От них осталась корова, которую они бросили, так как нечем было ее кормить. От голода она, бедная, не могла стоять на ногах, поэтому ее подвесили на помочах. Но молоко она понемногу давала.
Моей маме начальник госпиталя назначил по чашке молока в день, иногда ей давали и немного шоколада. Так маму удалось поднять. Весной 1942 года все раненые, которые могли стоять на ногах, поехали на участок сажать свеклу и турнепс. Все это было потом хорошим прикормом. Ботва тоже не пропадала: ее рубили и солили в бочки. Турнепс до сих пор вспоминаю как чудо!
Ездили в Озерки на трамвае № 20 (весной 1942 года трамваи снова пошли), иногда выделялась машина, особенно, если надо было перевозить лопаты и другой инвентарь. Для врачей и медперсонала это был настоящий отдых. Жили там в деревянных домиках. Кому повезло, тот спал на лежачих местах, остальные — на полу. Был выделен настоящий повар, который готовил врачам кашу с турнепсом. 5–7 дней длился отдых, и можно было снова приниматься за работу. Таков был блокадный «отпуск». Но без него было бы трудно.
Во многом помогла выстоять и выжить взаимная поддержка. Когда, к примеру, сотрудникам госпиталя выдавали на месяц банку сгущенки, то кто-то один открывал во время завтрака свою банку, но каждый имел право на «три ножа»: опускали в узкую пробитую щель лезвие ножа, а когда его вынимали — то, что оставалось на нем, и было порцией…
Хлеб и доныне — святое, и никогда не выбрасывается. Из остатков делаю сухари и отдаю их в церковь для бездомных и нуждающихся так же, как и ненужную одежду. И даже когда хлеб заплесневел, он не выбрасывается, а закапывается в землю: это хорошее удобрение.
На встречи бывших сотрудников военного госпиталя, где тогда работала, не хожу и само здание госпиталя на Мойке — сегодня Педагогический университет им. Герцена — стараюсь обойти стороной, уходя от грустных воспоминаний…»
«Фонтанка.ру»