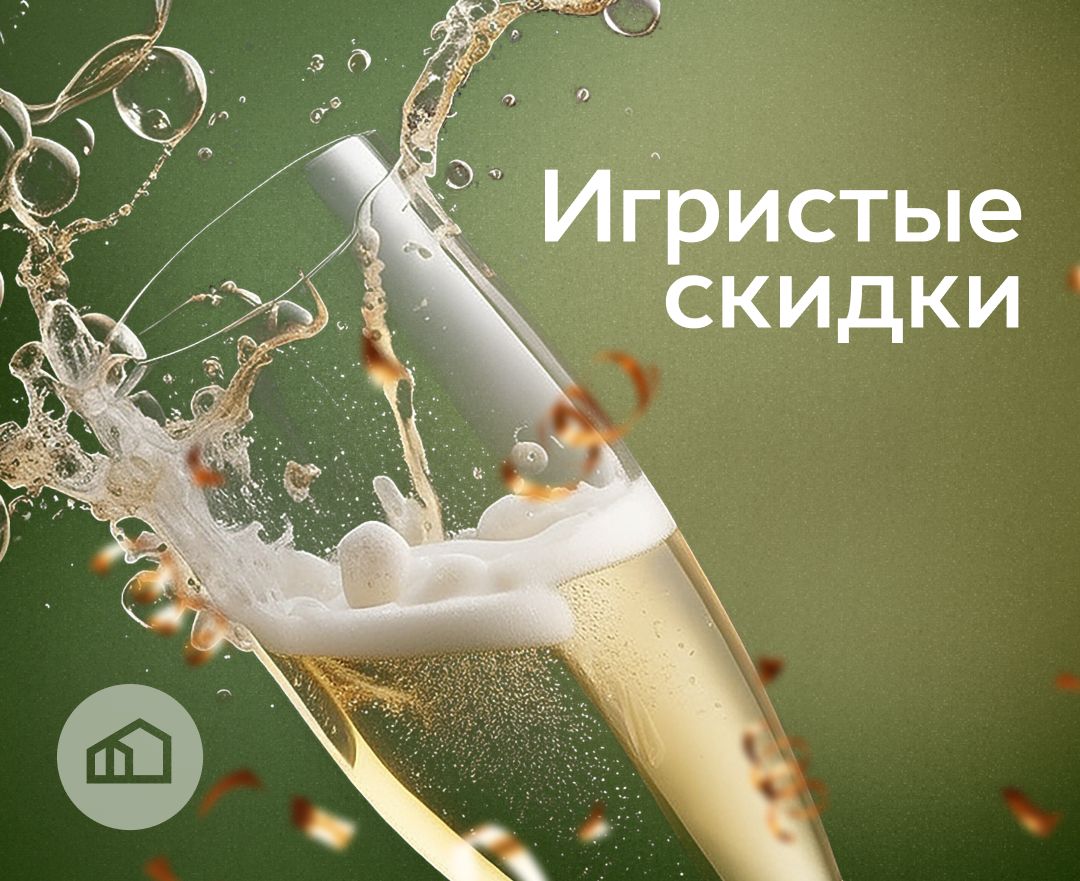Сезон в Московском художественном театре завершился премьерной «Чайкой». Правда, числится она спектаклем «Табакерки», но идет на сцене МХТ, и заняты в ней Олег Табаков, Константин Хабенский, Марина Зудина, Сергей Сосновский. Так что высказывание 35-летнего режиссера Константина Богомолова претендует на оценку по гамбургскому счету. К тому же, именно Богомолов сейчас репетирует «Короля Лира» в петербургском театре «Приют комедианта» и рассматривает приглашения других наших стационаров. Стало быть, уж точно пора с ним знакомиться.
Прежде чем спектаклю начаться по традиционному мхатовскому занавесу с намертво вшитой в него чайкой долго летает компьютерный уродец: туловище чайки с перепончатыми крыльями насекомого, а женский голосок тянет до неприличия попсовую песню «Вслед за чайкой я лечу, быть счастливой я хочу» – песню из дачного радиоприемника, от которой ни спрятаться, ни скрыться. Песни из радиоприемника станут сопровождать все перипетии, по ним можно будет распознавать историческое время действия. Нина и Костя целуются под «Часовых любви», пенсионер Сорин открывает рот под песню Зыкиной, а после танцует с блондинкой из зала подо что-то совсем невозможное вроде «Ласкового мая».

Всё это поначалу кажется милой шуткой режиссера. «Чеховым» глазами сегодняшних школьников – действие, кстати, в школе и происходит под пристальным оком Льва Толстого, чей портрет висит на стене. То ли это бывшая барская усадьба, где теперь разместилась сельская гимназия, которую оборотливый завхоз Шамраев (Павел Ильин) на лето сдает столичным жителям. То ли просто метафора – и нам предлагают посмотреть на Чехова девственным взглядом, убрав то, что обычно прилагается к текстам этого классика априори: душевные муки и рефлексии персонажей, виноватых без вины, их интеллигентскую сознательность и интеллигентскую же беспомощность.
Ничего подобного в спектакле Богомолова действительно нет. Бессмысленно искать в писателе Тригорине Константина Хабенского муки совести по поводу его отдаленности от народа – как раз эти лавры графа-мужика Толстого его совершенно не прельщают. «Я ведь еще и гражданин, – говорит Тригорин Нине Заречной, глядящей на него широко раскрытыми восторженными глазами, – должен писать о народе, о его…» – тут писатель запинается, три раза щелкает пальцами, припоминая забытое словечко, и лишь потом выговаривает: «…страданиях». При таком раскладе монолог Тригорина о жизни знаменитого писателя немедленно превращается в редкостную банальность, набор общих мест.

Зато совершенно искренне звучат слова того же Тригорина о том, что он не любит себя как писателя. И именно они заставляют вдруг всерьез и пристально взглянуть на артиста Константина Хабенского, которому в последнее время очень не везло с режиссерами: будучи стопроцентным неврастеником, точно лямку, тащил на себе амплуа супермена. А тут Хабенский сидит на столе, будто в купальне, с закатанными до колен штанами и исповедуется от лица Тригорина на тему страсти к рыбалке – и в нем узнается тот Костя Хабенский, который когда-то выходил на сцену петербургского Театра им. Ленсовета в спектаклях Юрия Бутусова. Зато творческие терзания этого писателя вызывающе карикатурны. Вроде бы уже ответив на страстный порыв Нины, он вдруг вскакивает и корчится – нечто, похожее на кишечную колику, оказывается, спровоцировал мелькнувший в сознании «сюжет для небольшого рассказа».

Любовь к Хабенскому московской публики, надо признаться, велика есть. И длинноногие девушки на аплодисментах, гордо шествуют к нему мимо Табакова – не с букетами даже, с охапками роз. И всё-таки, любить в себе актера, как любил его в себе Владислав Стржельчик и как любит тот же Олег Табаков, у Хабенского не получается. И не место тут выяснять, почему. В роли Тригорина Хабенский хорош, как давно хорош не был, потому что он – на своем месте и по заданию режиссера делает то, что у него отлично получается: кокетничает с публикой от собственного лица и от лица персонажа и иронизирует над своей звездностью.
Зато Табаков именно что царствует. «Полина, я напоминаю, мне много лет», – говорит Табаков – Дорн Шамраевой и говорит так, точно прекрасно знает, что напоминание это требуется, ибо на года свои он не выглядит. Надо ли говорить, что ответ Шамраевой – Надежды Тимохиной: «Вы отлично сохранились и еще нравитесь женщинам», – встречается смехом зала, переходящим в аплодисменты. Особенно если учесть, что тут же по сцене в роли Аркадиной дефилирует прекрасная Марина Зудина. «Конечно, блестящих дарований теперь мало, но среднестатистический актер стал гораздо выше», – продолжает откровенничать Табаков под новый смех и новые аплодисменты. А потом увещевает Костю Треплева (Павел Ворожцов) – ровно с теми, несомненно, интонациями, с какими беседует с начинающими постановщиками в своих креслах руководителя двух самых популярных московских театров: должны, мол, знать, ради чего творите, а то заблудитесь.

Текст Чехова, словом, со сцены звучит так, точно его написал представитель новой драмы, который, потолкавшись в сегодняшнем закулисье, соорудил вербатим про современный российский театр. Но это не самоцель. Спектакль Богомолова – не про нынешний МХТ. Трюки с вот таким, определенно-личным, присвоением текста нужны режиссеру, чтобы избавиться от ощущения «второй свежести» канонических, впечатавшихся в сознание помимо воли слов. И Богомолов достигает своего: сидя в зале, чувствуешь себя именно что сегодняшним школьником, который впервые открыл чеховскую «Чайку».

Сюжет спектакля строится не от того, что говорится, а от того, как актеры общаются с публикой, от интонации. А она здесь – узнаваемо дачная, доверительная, свойская. Аркадина – Зудина, приехав в другой раз, первым делом выводит Тригорина – Хабенского на авансцену: вот, мол, снова привезла вам нашу общую знаменитость, а Тригорин тут же эту ноту подхватывает – говорит так, точно разговор его с этими людьми ведется десятилетия, как с соседями по садоводству. И вот из того, как герои шатаются от лени, как сидят в буднично-нечеховских позах, обхватив колени руками или забравшись с ногами на диван, как прикладываются к вечно початой бутылке водки, стоящей на вечно накрытом столе, – из всех этих необязательных повседневностей на сцене постепенно складывается образ дачника как диагноз. И не чеховский, не горьковский – хотя включает в себя и суждения классиков тоже, а, прежде всего, нелицеприятно-современный, от которого инстинктивно хочется отвернуться, как от бомжа, сидящего у метро.
Дело даже не в том, что это те самые дачники, из которых не получилось хозяев, как предрекал Чехов, и те самые горьковские обыватели, которым нет дела ни до каких проблем, кроме собственных, сентиментальных. Это не просто люди без идеалов и идей, в том числе, и без идеи дома, но и без чувства семьи, чувства ближнего, что для Богомолова чрезвычайно важно. Чувства в этой «Чайке» вообще опрощены до предела. Вопрос увлечения Тригорина Ниной для Аркадиной – повод для небольшой истерики: он обсуждается походя, всё за тем же столом и под ту же водку. Отпусти, а? Нет? Ну и ладно. Как-нибудь разберемся и так.

Так, без подачи, впроброс, с большой сцены МХТ чеховские тексты еще не произносились. Но главное – что эта необязательность текста перетекает в полную безответственность поступков. Это как пьянство без похмелья, без осознания процесса саморазрушения. Фактически, способность к рефлексиям, то есть собственно человеческую сущность, сохраняют лишь два персонажа: Дорна Олега Табакова спасает здоровый цинизм и индивидуализм, Машу замечательной Яны Сексте – страдания по поводу безответной любви. Только они вдвоем и будут отчетливо помнить об инвалиде в доме, когда Сорина разобьет инсульт: Дорн начнет говорить в два раза громче, Маша, в нужный момент оторвавшись от утюга, подойдет к Сорину и привычно вытрет больному слезы и, уж извините, слюни. Но и страшная болезнь не внесет разнообразия в дачный уклад – окажется той же обыденностью, какой прежде была воспринята попытка самоубийства Константина.

История, которую три с половиной часа к ряду рассказывает режиссер Константин Богомолов, – это история об убийстве неглупыми, успешными современниками двоих детей. Ибо ни Костя Треплев, ни Нина Заречная, по Богомолову, не имели ни единого шанса повзрослеть: они выросли без любви, тепла, заботы, навыков выживания. Детей, впрочем, было трое – если считать еще и умершего ребенка Нины. А режиссер забывать о нем не хочет – и даже показывает публике специальный простенький компьютерный мультик, разделяющий второе и третье действие чеховской пьесы: там препарирование чайки, убитой Константином, запараллелено с препарированием беременной женщины. И история эта – не частный случай, а поколенческий. 35-летний Константин Богомолов из спектакля в спектакль настойчиво тянет тему бездомности и беспомощности нынешних молодых, перекладывая ответственность за них на поколение шестидесятников. Не случайно Сорина у него играет тот же уникальный артист Сергей Сосновский, который выходит на сцену Сарафановым в богомоловском «Старшем сыне». И болезнь такого Сорина (никаким инсультом герой в пьесе Чехова, если помните, не заканчивает) не случайна. Но, если в «Старшем сыне» речь шла только о безотцовщине, и герой Сосновского, фигурально выражаясь, посыпал голову пеплом в порыве раскаяния (даже жест такой специальный нашел – как будто рукой всё время от чего-то голову отряхивает), то в «Чайке» парализованный Сорин лишь громко говорит, скверно слышит и непроизвольно рыдает, а при этом без помощи посторонних не может обойтись.

При этом «Чайка» по мере жестокости гораздо более страшное произведение, чем «Старший сын». Ибо у Кости Треплева, в отличие от Володи Бусыгина, нет еще и матери. К голове только что стрелявшегося сына в знаменитой сцене перевязки Аркадина – Зудина не прикасается. И даже подобия материнско-сыновних связей между героями не найти: всё их общение – сплошные взимные упреки и уколы. Причем, мать в полную силу соревнуется с сыном в желании уколоть побольнее и, разумеется, побеждает.

Пожалуй, единственная претензия, которую можно предъявить спектаклю – ощутимая затянутость чеховского второго акта: людям, лишенным содержания, режиссер предоставляет слишком много слов. Зато в четвертом акте – он же второй акт спектакля – упругость и напряжение действия зашкаливают. Тут и стена ездит вправо-влево, и единственный пассаж гитарного перебора буравит мозг – это Костя, видимо, сходит с ума. И есть от чего: Нина, как выясняется, приходит именно поужинать и готова заплатить натурой прямо на столе, а единственная роль, которая у Заречной получается безукоризненно, – роль Аркадиной (юная актриса Яна Осипова образцово копирует манеры и интонации Марины Зудиной). По привычке Костя обращается за помощью к песне – истошно орет Шевчука, но Шевчук, ясное дело, бессилен, когда птенцов не только не научили летать, но приделали взамен неразвившихся собственных крыльев хрупкие крылышки насекомого.

Финал спектакля заслуживает отдельного абзаца. Ибо он сочинен и исполнен ювелирно. Узнав о том, что Константин Гаврилович застрелился, Тригорин, прежде чем отправиться успокаивать Аркадину, минуты три завязывает шнурки, а потом они танцуют так долго, чтобы у публики не осталось сомнений: объятья и поцелуи любовника уже утешили мать на много лет вперед. Трагедия же концентрируется в единственной сотрясающейся фигурке за длинным столом: фигурке Маши – Яны Сексте. И эта трагедия, эта катастрофа имеет ясное, как день, определение: невыносимая обыденность смерти.
Жанна Зарецкая,
«Фонтанка.ру»
Фото: Фил Резников (tabakov.ru)
О других театральных событиях в Петербурге читайте в рубрике «Театры»