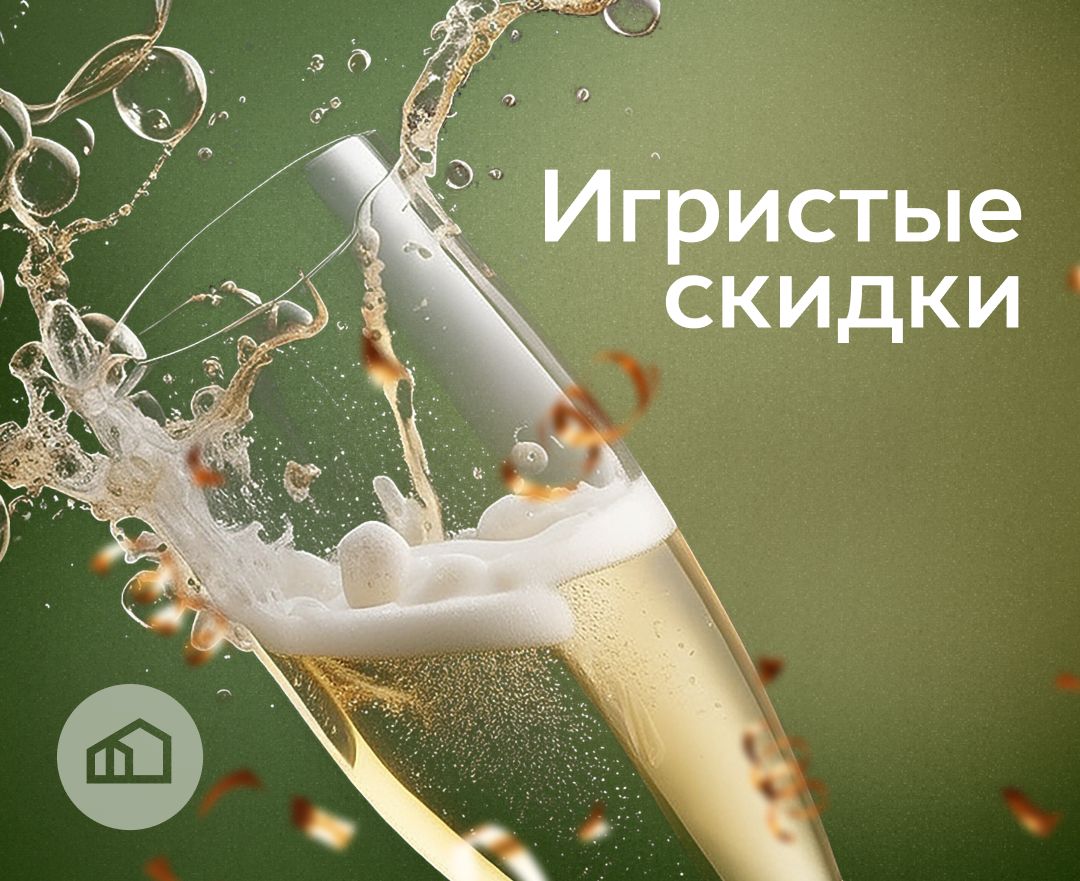Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, автор Блога злобного культуролога, — о страхе, жанре «мы уехали», коллективной немоте, «орках» и «эльфах».
— После начала специальной военной операции на территории Украины многие в России стали признаваться в неспособности говорить или писать в Сети. Почему так происходит?
— Травма не говорит. У меня есть подозрение, что это происходит из-за высокой чувствительности людей, которые привыкли к публичным высказываниям. Они понимают, что слова — это больше, чем сотрясание воздуха, это тоже поступки. И эта чувствительность отразилась в двух параметрах. С одной стороны, стало понятно: слова ранят. С другой — возникла идея коллективной травмированности. Ты сталкиваешься с явлением, которое не вписывается в представление о нормальной жизни, и не знаешь, как его означивать. Наш язык не очень позволяет выразить то, что мы сейчас чувствуем. Язык агрессии или травмы — это не тот язык, который мы в повседневной жизни используем. В такой ситуации многие решили, что максимально подходящим оказывается именно молчание. Законы военного времени, существующие на Украине, и рестрикции в нашей стране на этот выбор тоже влияют: многие люди считают, что говорить небезопасно. То есть, с одной стороны, и языка нет, и возможность говорить ограничена. А с другой — не хочется говорить абы что и придумывать эвфемизмы.
— Многие пользователи соцсетей стали чаще приводить цитаты больших писателей вместо собственных высказываний. Что стоит за желанием цитировать?
— Желание спрятаться за кого-то авторитетного и вписанного в канон культуры, не говорить своим языком и не брать на себя ответственность. Так же происходит с интервью известных интеллектуалов: от них ждут мнения, которым можно прикрыться. Сам человек может быть не готов говорить, но такой ссылкой демонстрирует солидарность с определенной группой.
— Можно ли сказать, что первая волна страха, накрывшая многих после 24 февраля, немного отступила? Насколько ощутим и всеохватен страх глобальной войны? Как меняется проживание страха: начинается привыкание, усталость бояться круглосуточно?
— У людей есть невероятный эволюционный механизм, который спасает, — приспособляемость. Приспособляемость, связанная не столько с поведением, сколько с защитными механизмами психическими. Первая реакция — ошеломление. Потом включается механизм диссоциации: это не со мной происходит. Если ты сидишь в мегаполисе, то понимаешь, что что-то происходит (цены выросли, кого-то уволили), но в целом люди умеют с этим уживаться. Кто-то цепенеет. Есть еще реакция «замри»: вот я сейчас подожду, но когда-то это закончится. Прежняя картина мира на протяжении десятилетий, особенно у человека не очень внимательного к каким-нибудь локальным конфликтам, складывалась из такой культуры достаточного спокойствия. Потому «надо переждать» и «не высовываться», выбрав комфортный способ пассивного существования. Одновременно психологические защиты работают на то, что страхи рационализируются. Мы можем бояться ядерной войны, но в какой-то момент понимаем, что это бессмысленно.
— Сопоставимы ли нынешние страхи ситуация (боевые действия на излете пандемии) с ситуациями ожидания конца света в давнем или не очень давнем прошлом?
— Это немножко разные страхи. Когда речь шла о пандемии, говорили о появлении страшного события, которое сложно было контролировать. А сейчас работает страх не абстрактного явления. С первым страхом было проще совладать. Пассивная реакция «я ничего не могу сделать», остается только надеть маску и ждать вакцины, — это тот тип бездействия, с которым люди готовы смириться. Страх стал сильно снижаться, когда появились вакцины. А сейчас ситуация иная: есть люди, на которых ты можешь повесить вину или ответственность. И предполагается, что у тебя тоже есть своя мера вины или ответственности. Невозможно сказать: «Это меня не касается!» В этой ответственности невозможно бояться, нужно рационально действовать. Во время пандемии все сильно боялись за себя, пока жизнь в новых условиях не стала привычкой. Потому проявлялись фатализм и желание эти «последние времена» прожить так, как ты хочешь, вместо того, чтобы следовать правилам, в которые ты не очень веришь. Ну вот не буду носить маску, и все! Мне кажется, для людей с подобной оптикой не особенно что-то изменилось: и сейчас они не демонстрируют никакой эмпатии по отношению к происходящему и говорят: «Лишь бы меня не тронули!»
Но мировоззрение у человека может быть устроено сложно, оно не обязательно сведено к черно-белому мышлению. Привычка задавать вопрос: «Ты за или против?» — для людей с не черно-белым мышлением может выглядеть как попытка подогнать все под одну или другую позицию. Выясняется, что цветущая сложность никому сейчас не нужна.
— А могут ли люди противоположных взглядов сейчас найти общий язык?
— Люди плохо слышат друг друга, не умеют разговаривать. Но если никто не захочет друг друга слышать, так тому и быть. Очень часто встречаются черно-белое мышление и стремление шеймить окружающих, искать чуть ли не «врагов» и «предателей». К сожалению, они работают на приход к власти популистов и часто — людей консервативно настроенных. Может быть, у нас включится социальный инстинкт самосохранения, потому что мы помним, к чему правые консервативные тенденции приводили ранее. Но ведь и другая сторона говорит примерно то же самое: оппоненты отравлены воздухом несвободы, с ними разговаривать бесполезно. И пока они говорят «если надо объяснять, то не надо объяснять», другие в ответ бьют методичкой. Все расплевываются — единого пространства для диалога нет. От людей требуется «встать на позицию» и определиться: ты с нами или против. Не встаешь? Ты коллаборационист и дезертир для всех, мы тебя сейчас все попытаемся «нормализовать». Часто это выглядит как нападение с обеих сторон.
— Почему общество так атомизировано?
— Это, мне кажется, следствие того, как развивалась Россия в XX веке, когда людей в течение 70 лет загоняли в коллективизм. Так появляется умение лицемерно изображать коллектив и одновременно мысль, что все прячут фигу в кармане. И это приводит к тотальному недоверию. Россия — вроде бы страна с коллективистскими традициями, но по факту это не так. И это очень хорошо заметно в размежевании, которое есть, например, между крупными городами и депрессивными регионами. «Эльфы» из крупных городов заговорили про «орков» провинциального «Мордора», в ужасе стали дистанцироваться от них. Страшно себе при этом представить, что «орки» думают в ответ об этих «эльфах» и какую меру несправедливости видят в этом патернализме. А он очень притягателен, поскольку дает ощущение внутреннего колониального мышления: есть прекрасные «мы» с благами цивилизации и ужасающие «они», ну вот так сложилось, что, видимо, без благ. Правда, сейчас стали появляться призывы не добавлять стигм тем, кто маргинализирован самой страной и жизнью в ней, и выйти из прекрасной иллюзии витринных европоцентричных городов для того, чтобы увидеть, что страна состоит и из деструктивных явлений. С ними — пока есть шанс — надо работать, а не отворачиваться от них.
— Многие «экранируются» от новостей: сознательно или нет, но ограничивают их потребление. Это связано, в том числе, и с шоковым содержанием, и с тем, что невозможно отделить подлинность от фейка. Как работает этот «экран»? Связан ли он с попыткой отрицать те или иные события — «этого не было», «это не мы»?
— Любой отказ от информирования — это отказ от солидаризации с тем, о чем идет речь. Если мы не погружаемся в контекст, нам не приходится соотносить свое видение с тем, что нам транслируют. А с другой стороны, большинство не очень понимает, как с этим жить. Хорошо, если есть терапевт и успокоительные препараты, которые не заканчиваются на фоне санкций, или если есть близкий круг, разговоры на кухне. Или если ты активист и можешь участвовать в акции. А если все эти опции для тебя закрыты, но нужно продолжать работать и нет возможности уехать, чтобы дышать «воздухом свободы», тебе же все равно нужно жить и оставаться в уме. Поэтому ты закрываешься от тех явлений, которые не стыкуются с твоей картиной мира. Как только ключевой кирпичик в картине мира человека перестает работать, например, допущение, что «все хотят мира», вся картина мира рушится. Кстати, ради защиты от такой ситуации многие люди своих пожилых близких не готовы погружать в повестку, но в итоге фактически мирятся с тем, что родители смотрят пропаганду.
— С началом спецоперации в соцсетях встречаются цитаты работы Сьюзен Зонтаг «Смотрим на чужие страдания» (2003), в которой речь идет, в том числе, о механизме отрицания военных преступлений. Как вы считаете, оправдано ли сопоставление эпох? Отличаются ли реакции человека и общества в 2022 году от их реакций в 1930-х? В 1940-х? В 1990-х?
— Очень грустно, что мы постоянно проводим эти параллели. Эти аналогии вредны, потому что в публичном поле существует наивное представление, будто мы понимаем, как там было, в 1930–1940-е. Мышление по аналогии как будто бы позволяет расшифровать то, что происходит сейчас и что будет дальше. И это очень успокаивает, потому что считается, что история циклична. Но это не так. Попытки найти простые объяснительные схемы, которые работали сто лет назад, не учитывают, что контекст очень сильно поменялся, поменялась информационная среда, символическая реальность, с помощью которой нам объясняют, что происходит. Апелляция к Зонтаг удобна: эссе относительно новое. Оно объясняет, каким образом возникали изображения войны, как военная фотография стала политизированной и ангажированной. Но Зонтаг не знала о дипфейках и о том, как можно использовать современные инструменты достройки изображений для информационных войн, да и сама информационная война стала более интенсивным элементом военных действий. Это только подтверждает, что любая историческая аналогия — побег в удобное пространство: мы нашли тех, кто нам все объяснит, и тот язык, который кажется нормативным. Это попытка выбраться из своей травмы. Что интересно, мы проводим параллели с Германией, а не Югославией. Это удобно: немецкая культура — великая, поражение тоже великое, в центре — историческая личность. Величие поражения и искупления. И в этом желании ассоциироваться с Германией есть заявление: мы особенные.
— Применительно к эмиграции и воспроизводятся клише прошлого века, и отражается размежевание. Реакции часто полярные: одни считают уехавших предателями, другие полагают, что оставшиеся — «люди второго сорта». Почему так? Зачем отъезжающие манифестируют свой отъезд?
— Многие, уезжая, написали специальные посты, чтобы френды учитывали смену оптики. Кто-то сообщает об отъезде, чтобы самооправдаться. А желание делить людей на «коллаборационистов» и «предателей» объясняется просто: привычка делить мир на оппозиции. Отсюда и оценки: уехал — «спасся» или «убежал». Интонация тоже разная. Интеллектуальные селебрити писали про невозможность дышать отравленным воздухом и про «орков». Любопытно, что уезжающие и заявляющие об этом люди часто умеют работать со словом, но при этом у них потрясающая нечувствительность к слову в этих прощальных высказываниях.
— Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит. Как трансформируется значение слова «патриот»? Кто такой «большой патриот» и можно ли вообще это определить в терминах не пропаганды, а обиходного языка?
— Сложный вопрос. Когда мы слышим слово «патриот» от политика, то понимаем, что нам объясняют, как правильно любить государство и правительство, как воспитывать в себе чувства по отношению к согражданам. Очень может быть, что это мобилизационная речь, а государство пытается переприсвоить это понятие, подчеркивая, что патриотизм не столько государственное намерение, сколько искренний порыв. Часто эти попытки проваливаются там, где начинается патриотическое воспитание. Но слово «патриот» используют и, скажем, люди, пересказывающие друг другу историю о нападении на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова: «Вот настоящий патриот»: он нобелевский лауреат, человек, маркированный миром как достойный гражданин РФ». Кто-то, наверное, считает патриотом нападавшего, хотя мне повезло такие реплики не видеть. А государство, между тем, находится в состоянии возвращения идеи госпатриотизма, возгонки соответствующих чувств. Делает это, правда, достаточно топорно. Но и в обществе всплеск патриотизма и даже запрос на него: работает логика «раз весь мир против нас — сплотимся».
— Опрос ВЦИОМ показывает, что поток уезжающих почти не влияет на картину общественного мнения, в том числе по вопросу эмиграции: ее как решение допускают сейчас около 10%, причем реально уехавших на порядок меньше, и эти множества могут вообще не совпадать. Значит ли это, что на уехавших можно не обращать внимание как на пренебрежимое меньшинство?
— Сейчас не те обстоятельства, когда опросы могут показывать что-то релевантно. Ощущение, что все вокруг уезжают, немного искаженное. Уезжают максимально яркие из таких сообществ, где принято громко об этом говорить. Это внутри сообществ создает ощущение выжженной земли. Кроме того, есть страхи, которые изнутри сообществ распространяются вовне. Важно и количество информации по релокации, которое человек видит: если он подписан на каналы для уезжающих и на него валятся посты, это, конечно, создает ощущение массового отъезда.
— Уехавшие русские, русские, думающие об отъезде, и остающиеся русские — образуют ли они разные группы или остаются одной?
— Люди, которые собираются уехать, не гомогенная группа. Не все могут улететь. У кого-то множество обязательств, а кто-то привык в долгую планировать. Они хотят спланировать свою жизнь более-менее последовательно.
— Уезжающие русские в состоянии сделать русское сообщество глобальным и трансграничным? Или они, как и прежние волны эмиграции, растворятся во внешнем мире, и деление на страны, и сопутствующее ему деление на своих и чужих, вновь возобладает?
— В русскоязычных диаспорах за рубежом, насколько я могу судить, мало солидарности. Сейчас у многих людей, которые называют себя русскими или россиянами, есть желание дистанцироваться от русских. При этом я не вижу, чтобы у людей, уехавших в Грузию или Армению, было желание ассимилироваться: они часто воспринимают эти страны как временный пункт назначения. А извне любое объединение русских воспринимается как проявление имперскости, которое присуще россиянам в России.
— На консолидацию россиян иногда влияют неожиданные вещи, но и проявляется она порой странно: например, у российских покупателей в магазинах Chanel просят расписку, что они не будут носить аксессуары в России, где компания свернула свое присутствие. В ответ в Москве закрытый магазин Chanel обклеили стикерами с Гитлером, а несколько топовых блогеров на видеокамеру порезали свои сумки Chanel.
— Действия и заявления бизнеса — часто этический камуфляж. Их преподносят как бизнес-решения, но за ними часто лежит не экономическая логика, а логика политического давления и желание хорошо выглядеть в глазах глобального сообщества. Сейчас это значит — отказ работать с Россией. Некоторые фирмы выпускают товары первой необходимости, и их уход из страны может грозить серьезными гуманитарными последствиями. Цена этических игр в этом случае очень высока. Люксовые же товары рассчитаны на обеспеченную аудиторию. Отказ сотрудничать в их случае — этический камуфляж и пиар-ход, чтобы хорошо выглядеть. При этом очевидно, что с моральной точки зрения они не платят громадную цену. Модели и it-girls порвут в прямом эфире сумку. Это можно пережить, а вот как пережить ситуацию, когда твоя компания способствует развитию менструальной бедности или ухудшения положения людей с тяжелыми диагнозами, я не очень могу понять.
— Еще 4 марта Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию российских военных; с тех пор вышел еще ряд строгих законов. В итоге уже возникла целая волна доносов, причем публичных. Почему в стране, пережившей «Большой террор», так быстро реанимировался жанр доноса?
— Этот жанр никуда не уходил, просто трансформировался. За последние годы я часто наблюдала, как люди говорили: «Единственный способ добиться чего бы то ни было — это написать жалобу». Разобраться с учительницей в школе, управляющей компанией — не важно. Этот жанр долгое время требовался для решения практических задач и не был связан с политической позицией. Сейчас же для людей, которые не имели преференций для сведения счетов (или борьбы за справедливость, с их точки зрения), этот инструмент стал еще доступнее и оправданнее. А еще для многих людей антиукраинская идентификация работает как групповая идентификация. Чувство принадлежности к группе очень важно для людей, особенно в ситуации кризиса. Все ищут «хохлов», ну и я поищу. И безусловно, есть те, кто хочет выслужиться. В общем, в любых иерархических отношениях донос очень часто становится единственным способом обрести власть для людей, находящихся внизу общественной пирамиды. Для многих из них приемлема позиция: умри ты сегодня, а я завтра.
— Многие сейчас живут одним днем. Одним из самых тяжелых эффектов нынешней ситуации является дефицит представлений о будущем. А для преодоления любого кризиса нужно ясно представлять себе, как мог бы выглядеть выход из него. У вас есть какое-то представление о будущем?
— У меня представление будущего исчезло в 2020-м с развитием пандемии. Я была уверена, что пандемия заставит людей задуматься о том, как работают экономические структуры, как устроена идея труда, отношения между людьми. Но ничего подобного: люди хотят вернуться к старой нормальности. Люди держатся за тот образ реальности и действительности, который им был удобен и позволял поверить, что мы живем в комфортном настоящем. Мне казалось, что с пандемией все должны были понять, что мир не совершенен, а выяснилось, что люди очень ригидны. Ничего хорошего не ждет людей, если они будут смотреть только вокруг себя, а не дальше, или оглядываться назад. Я не знаю, какое будущее ждет человечество. Мое будущее — это легкий партизанинг и анархизм. Я не хочу существовать в том мире, каким он сейчас выглядит. Буду держаться за то, во что сама верю, не навязывая другим. Мне кажется, мысль, что у нас есть понятное будущее, движение к прогрессу, — это грандиозный самообман. Люди не желают признать, что миф о прекрасном будущем был именно мифом. Мир не такой гармоничный. Сейчас переломный момент. Нам придется понять, как жить дальше. Либо сделать ставку на взаимную помощь, либо на еще большую атомизацию, формирование оппозиции.
— Если у нас разные ценности, как же мы сможем договариваться?
— Люди могут более осознанно объединяться в сообщества, могут научиться договариваться друг с другом и другими сообществами. Когда мы все определяемся не идентичностью «мы русские» или «россияне», а по каким-то другим параметрам. Тогда мир не будет выглядеть напластованием глобальных тектонических плит: американская культура, европейская культура. Мы разные, гораздо сложнее, чем национальная или вообще какая-то одна-единственная идентичность, и нужно уметь эту разность видеть.
Беседовала Мария Башмакова