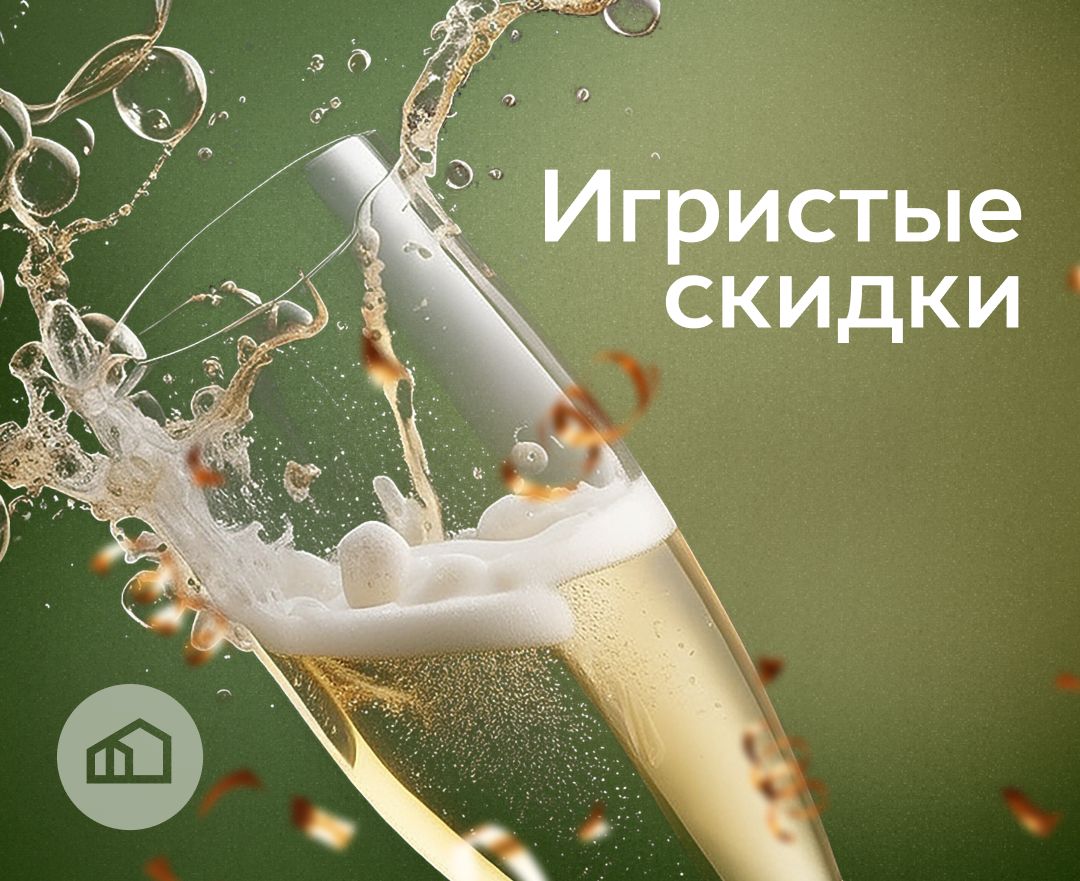Россия идёт на обострение отношений с США сознательно и намеренно, в этом кроется тонкий расчёт. Как мы добились от Запада страха и уважения – «Фонтанке» рассказал эксперт Московского центра Карнеги Александр Баунов.
Министерство иностранных дел России пригрозило Соединённым Штатам «болезненными мерами» в ответ на санкции. Последнее заявление ведомства выдержано в лучших советских традициях: «наш ответ на американскую враждебную линию», «применение несимметричных мер», «в нашем арсенале найдутся шаги, которые отзовутся достаточно болезненно», – это цитаты из ответа президенту Обаме, не желающему ни снимать с России санкции, ни компенсировать ущерб от них, как требует того «плутониевый» закон президента Путина. В то же время мы продолжаем поставлять Штатам ракетные двигатели, запускаем марсоходы с Евросоюзом, то есть явно не хотим уйти в полную изоляцию. Хитроумную российскую политику «Фонтанке» объяснил эксперт Центра Карнеги Александр Баунов.
– Александр, что происходит с отношениями России и США? Даже Советский Союз не ставил таких странных ультиматумов, как «плутониевый закон», даже СССР не обвиняли в попытках повлиять на американские выборы. Что мы делаем?
– Отчасти это попытка России закрыть все «горящие» вопросы до прихода новой администрации в США. Понятно, что Америке сейчас не до России – в практическом смысле. Обама ничего радикального предпринимать не будет. Он не будет посылать летальное оружие Украине, он не будет принимать новые санкции против России из-за Сирии. Возможен вариант, что есть какое-то пропущенное звено, которого мы не видим и не понимаем, но никаких следов такого «звена» я пока не вижу. Другое объяснение – мы видим деградацию образа России внутри американской предвыборной кампании.
– Почему надо смотреть на всё через призму американских выборов? Не считая того, как Россию используют оба кандидата в своей агитации, по американской прессе видно, что наша страна занимает там очень маленькое место.
– Так было традиционно – со времён окончания «холодной войны». Но если мы посмотрим упоминание других стран, важных для Америки, Россия всё равно занимает в этой кампании несопоставимо большее место и по сравнению с ними, и по сравнению с тем, какое место она занимала в предыдущих кампаниях. Произошёл апгрейд: мы добивались уважения – и в некотором смысле добились. Мы хотели, чтобы о нас говорили всерьёз. И вот говорят всерьёз. Так всерьёз, что мало не покажется. В таком духе, что Россия – глобальный противник, угроза национальной безопасности США, пытается влиять даже на исход американских выборов. Более того, России приписывают неудачи кандидата от истеблишмента и успехи кандидата-популиста. То есть Россия – настолько опасная сила, что она может своим влиянием на США изнутри разрушить американскую политическую систему. Повлиять на умы простых американцев, взломать и пересчитать голоса на выборах. Изменить американскую повестку. То есть американцы вдруг заговорили о России так, как о нас раньше говорили… Скажем, в Латвии.
– В общем, уважают и боятся. Это ведь то, чего мы и добивались?
– На самом деле на нас просто списали некоторую новую политическую ситуацию в Америке. Американский истеблишмент впервые встретился с серьёзным популистским вызовом – и оказался в панике. Европейцы к такому привыкли. Французы помнят, что папаша Ле Пен побеждал и без всякого Путина. Мы тогда как раз с Западом дружили, а Ле Пен вышел во второй тур на президентских выборах, то есть французам очень сложно продать историю о том, что дочка, Марин Ле Пен, побеждает исключительно из-за козней России. У американцев такого опыта нет, они привыкли к политике, которая колеблется на шаг вправо или влево от центра. Там очень долго отсекали всех популистских политиков. И вот в США прорвался популист европейского типа – и они не понимают, что с этим делать. И прибегают к приёму, который забыли за ненадобностью: объяснить неудачи истеблишмента происками внешнего врага.
– То есть в кампании они отвели России роль пугала?
– Нет, ну понятно, что есть какие-то высказывания Трампа о Путине. Но вот сами представьте себе: идёт российская кампания. Уж насколько у нас склонны всё объяснять вмешательством внешних сил – протесты и всё остальное. Но будем ли мы всерьёз говорить, что такой-то кандидат побеждает потому, что за него выступил, например, польский лидер? Я говорю о масштабе. Россия по сравнению с США – страна все-таки малая. Сам Обама называл нас региональной державой с испанским ВВП. И так оно и есть. И представьте: выходит Путин и говорит, что чуть не проиграл из-за того, что его противников поддержал Качинский.
– Вот! Мы их заставили воспринимать нас не как региональную державу.
– В общем-то, да. Разными способами. Но мы бы ни за что этого не добились, если бы их внутренняя ситуация не заставила их принять такую игру. Мы эту игру начали, объявив, что вернули себе мировой влияние. На нас смотрели с некоторым недоумением: это кто там с мировым влиянием – 2 процента от мировой экономики? Кто это там такой влиятельный, у кого нет ничего, кроме советских ядерных бомб, которые всё равно не смогут использовать? А когда у них во внутренней политике сложилась критическая ситуация, они очень быстро подхватили идею: ах, да, это же Россия вернулась и снова стала Советским Союзом! Это, конечно, не маккартизм, но впервые со времён сенатора Маккарти американцы признают влияние противника на свою внутреннюю политику.
– Как мы заставили себя так сильно уважать? Ведь не только операцией в Сирии?
– Очевидно, что сделали мы это, перейдя такое количество «красных линий», какого прежде никогда не переходили. И при этом нам за это как бы ничего не было.
– «Плутониевый» законопроект, внесённый президентом в Думу, – это фактически ультиматум США. Потом мы узнаём, что с США у нас договорённости по Сирии – и тут же эти договорённости нарушаются. Потом отменяется визит президента во Францию. Это всё – тоже доказательства нашего влияния?
– С Францией история сложнее, чем просто отмена визита. Это называется перехватывание инициативы. Вот мы чувствуем, что кто-то нам сейчас откажет, а если даже не откажет, то разговаривать будет с очень кислой миной. И мы просто опережаем события: сам не поеду – и пусть теперь они там переживают, что испортили отношения с Россией. То же самое, кстати, произошло и с Японией в 2014 году. Осенью 2014 года должен был состояться громкий видит Путина в Японию. После Крыма и Донбасса Япония его отменила.
– Осень 2014-го и осень 2016-го – очень разные времена года. Осенью 2015-го началась наша операция в Сирии, и считается, что на этом Россия прорвала изоляцию.
– Да, пик изоляции приходился 2014 – 2015 год, точнее – на месяцы после сбитого «Боинга». И до второго Минска. Ведь что такое изоляция? Это означает, что ты хочешь разговаривать, а с тобой – нет. Это бойкот. Изоляция – это Путин приезжает в Пекин или в Брисбен на саммит G20, а с ним там никто не хочет разговаривать. Путин ходил в одиночестве, накидывал шаль на плечи жены Си Цзиньпина, показывал всячески, что пусть не с Западом, но с Китаем или Индией у него отношения почти фамильярные, чем, кстати, самих китайцев несколько удивил. Но ему и этого сделать не удалось, потому что западные лидеры так хитро себя вели, что постоянно перетягивали к себе лидеров «третьего мира». Условно говоря, Обама всё время беседовал с Си Цзиньпином, чтобы лишить такой возможности Путина. По крайней мере – перед камерами. Плюс – как Путина встретили, как он уехал. Вот это была изоляция. А как ещё надо было вести себя после гибели гражданского самолёта?
– Да, но потом-то началась наша триумфальная операция в Сирии. Была даже надежда, что на этом начнётся что-то вроде новой «перезагрузки».
– Операция в Сирии стала принуждением к разговору. Это был прорыв дипломатической блокады, это был перенос интереса к России из того места, где Россия, с точки зрения мирового сообщества, виновата в одиночку, в такое место, где она виновата не одна. Это автоматически меняло конфигурацию. «Боинг», Донбасс, Крым – это то, что можно поставить в вину одной России. То, что происходит в Сирии, – нельзя. И предполагалось, что в Сирии мы решим несколько задач: поддержим дружественного лидера, сделаем его несвергаемым и одновременно вернёмся к общению с Западом.
– И всё, кажется, получилось.
– А потом всё оборвалось. Это действительно было похоже на довольно резкий разворот: «Сами взорвали «Корейца», нами потоплен «Варяг».
– Вы хотите сказать, что мы сами начали резкий разворот обратно к изоляции?
– Это уже не изоляция. Это ссора. Точнее, превентивная изоляция. Это попытка изолироваться своими руками. Не потому, что такая ситуация очень желанна. Путин не хочет руководить изолированной страной. Он не хочет быть лидером страны, похожей на Северную Корею.
– Тогда зачем такие странные шаги?
– Кто выигрывает в обычной дворовой ссоре? Тот, у кого выше порог чувствительности и более железные нервы. С нашей точки зрения, наш порог чувствительности превосходит американский и вообще западный. Россия готова поступиться большим. Она готова хуже жить. Она готова на большие жертвы. И она готова больше рисковать. Например – Украина: американцам она, по большому счёту, ни за чем не сдалась, а для нас это – родное. И надо дать им это понять: для вас это – далеко, вы за это не умрёте, а мы за Крым умрём. Цель будет достигнута тогда, когда те, кому всё это надо меньше, чем нам, скажут: ну, нет, дальше мы не пойдём, пусть забирают свой, скажем, Крым. Мы лишаем американскую администрацию, которая придёт на смену администрации Обамы, возможности нас «наказывать», возможности опускать отношения куда-то ещё ниже. Просто потому, что мы это делаем сами, своими руками.
– Зачем?
– Мы ищем момент, когда они скажут: ну, всё, дальше уже слишком опасно. Ведь так уже было в советское время: каждый период обострения заканчивался периодом разрядки. «Пражская весна», танки Варшавского Договора в Праге, а потом «Союз» – «Аполлон». Сколько лет между ними прошло? Да всего-то пять! В этом смысле мы создаём мини-версию Карибского кризиса, чтобы Штаты сказали: ну, нет, эти ребята настроены серьёзно, нам это не нужно. Они же понимают, что самой Америке мы не угрожаем. По крайней мере – пока. И понимают, что они сильней. Поэтому цель будет достигнута тогда, когда мы будем готовы идти дальше, а они – нет.
– Они точно отступят? С Турцией мы действовали по похожей схеме, когда игнорировали предупреждения о нарушении воздушного пространства. А они взяли и сбили самолёт.
– США тоже могут поступить по-разному. Мы ухудшаем отношения, создаём кризис в надежде, что они захотят из него выйти. А они возьмут и не захотят. Возьмут и скажут: вы сами опустились на дно – вот там теперь и лежите. И этот уровень станет для нас привычным. А если он станет привычным, от него можно будет и дальше понижаться. Мы всё-таки строим расчёт на том, что другие будут вести себя более рационально, чем мы. А вдруг не будут?
– Например, в Штатах победит Трамп, который уже сказал, что надо сбивать российские самолёты, которые «крутят бочки».
– Вот тогда мы посмотрим, как наше руководство будет вылезать из такой ситуации. Может случиться, что американцы понизят этот уровень до такого, какой уже будет для нас неприемлем. Тогда уступать придётся нам.
– Ради чего всё это? Чтобы нам не мешали жить так, как мы хотим, не обращая внимания на всякие международные договорённости?
– Нет, международные договорённости как раз важны в первую очередь более слабой стороне. А Россия всё-таки осознаёт себя как сторону слабую – и финансово, и технологически. Наше руководство прекрасно понимает, что мы даже автомобиль не можем построить без совместного предприятия с западной фирмой. Тем не менее они считают, что спасают страну. Потому что эта страна была дважды потеряна за 100 лет – в 1917-м и 1991-м, а это большой травматический опыт. Им кажется, что угроза не исчезла. А страна наша устроена очень странно. Она большая. Она неравномерно населена. Она то ли империя – то ли нет. Отношения с соседями неясные. И ясного ощущения будущего у человека в Кремле нет.
– Разве условный «человек в Кремле» не сам создал такую ситуацию?
– Отчасти сам. И я даже могу сказать, в какой момент. Очевидно, что неясность будущего происходит в первую очередь от неясности вопроса, кто будет править страной. В монархиях всё ясно: вырастет наследник престола – будет править. В парламентских или президентских республиках тоже ясно: кто-то выиграет выборы – будет править. А у нас что? У нас и не монархия, и не республика. У нас самая нестабильная форма.
– Как в некоторых арабских странах, по которым прошла «Арабская весна».
– Совершенно верно. Посмотрите, где прошли революции «Арабской весны». Они прошли не в монархиях. И не в демократическом, хоть и обременённом миллионом проблем, Ливане. Они прошли в квазимонархиях: там, где режим по сути монархический, а оформлен с помощью республиканских институтов. Когда 40 лет сидит во главе один полковник, а вроде бы всё это называется республикой, непонятно, как и кому власть перейдёт. И наше будущее стало неопределённым в 2011 году, когда Путин объявил о том, что вернётся в президенты. Когда стало понятно, что уход с поста первого лица для России снова становится неразрешимой проблемой.
– Вы связываете «рокировочку» сентября 2011-го с событиями «Арабской весны»?
– Она и была реакцией на «Арабскую весну», которая воспринималась у нас как действие, управляемое прямо из Америки. То есть из «Арабской весны» сделали неправильные выводы. Вместо того чтобы задуматься, почему в странах с неясной политической системой, с декоративными институтами происходят такие события, они стали искать внешние причины. И вот тогда, в 2012 году, отношения с Западом категорически изменились. Тогда у нас начали принимать антизападные репрессивные законы.
– Но в 2011 году Запад ничего нового по отношению к России не сделал, наоборот – ещё шла пресловутая «перезагрузка».
– Обида на Запад у России была с 1990-х. И Ельцин очень раздражённые слова говорил Клинтону и по поводу Сербии, и по поводу Чечни. Обида была. Но это была обида другого типа. Она не оформлялась как конфликт цивилизаций. Она не оформлялась как ценностное различие. Разговор шёл примерно такой: мы с вами одинаковые, у нас одни ценности, мы хотим тех же технологий, свобод для граждан, образования, здравоохранения и так далее, то есть мы с вами разделяем одни ценности. И почему вы тогда к нам не относитесь как к равным? Такое было отношение к Западу: как к партнёру, который кидает. А разговор о том, что мы разные, начался в 2012 году. Такой вывод мы сделали из «Арабской весны» и московских протестов.
– В обоих случаях виноват Запад – надо от него защититься?
– Надо полностью сменить манеру общения с Западом. И после московских протестов началась вся эта пропагандистская история про разные ценности с Западом, что он идёт по неверному пути. Здравоохранение, образование, потребление, наука – это всё неважно, сказали мы. А как же нравственность? А семья? А скрепы? А Бог? И понятно, почему это возникло именно после московских протестов. В центре протестов были люди, представлявшие внутри России этот «западный путь» в самом концентрированном виде. То есть просто те, кто не отделял свой образ жизни, свои ценности от западных. Вот с этими ценностями люди вышли и сказали: этот парламент, этот способ, которым президент возвращается, нам не подходят. Им на это ответили: тогда мы скажем, что эти ваши ценности – не наши. Вот тут и произошёл разрыв. Если формулировать в их выражениях: они спасают страну от внешней угрозы. А когда ты спасаешь страну от внешней угрозы, тебе проще с собственным населением. Уже не нужно объяснять, почему ограничены какие-то свободы. Более того, население находится в состоянии очень интенсивных переживаний. Оно всё время как бы пьёт очень крепкий напиток. После того, как спасаешь страну, заниматься какой-то мелочью уже не хочется. Спасать страну гораздо более благородное занятие, чем, скажем, ремонт крыш.
– Это можно как-то остановить, или теперь «напиток» может только «крепчать»?
– Деэскалацию можно провести очень просто. Достаточно сменить тон разговора. Ведь и Путин явно не хочет рвать с Западом окончательно, он не хочет быть ни Ким Ир Сеном, ни даже Лукашенко. Только что он отправил «плутониевый» законопроект, вся Дума на нём присягнула – и вот он уже общается с инвесторами на форуме «Россия зовёт». Так что окончательного разрыва явно не предполагается.
– Если бы речь шла только о внешней политике – ладно, но нашими «новыми ценностями» внутри страны вдруг стали памятники Ивану Грозному и Сталину, уголовная статья за ловлю покемонов, «пакет Яровой» и так далее.
– Я пытаюсь оперировать таким термином: контурная диктатура. Это режим, который соблюдает определённые правила. Он маскируется институтами, выборами. Он делает это не только для того, чтобы пыль в глаза пустить. Ему самому так жить удобнее. Зачем уничтожать всё, если тех же целей можно добиться, взяв под контроль что-то одно? Зачем сажать в лагеря миллионы, если политическая лояльность обеспечивается мощной пропагандой в сочетании с небольшим количеством репрессий? Зачем перенапрягаться? Репрессивные законы приняты, а есть ли репрессии? Есть, но они никак не соответствуют тому, что могло бы быть. Они, скорее, обозначают контур некой территории, но они не закрашивают её целиком. То же самое когда мы говорим о декоративных институтах: у нас декоративный парламент, у нас ненастоящая свобода прессы…
– Вплоть до диссертационных советов – всё декоративное.
– Но и в обратную сторону это тоже действует: у нас и репрессии декоративные. И памятники Сталину – декоративные. И «холодная война» декоративная. Это и отличает современные автократии от их классических аналогов 1930-х годов. Из этой парадигмы выпадают только Крым и Донбасс. Вот это почти классика: вдруг мы вернулись почти на 100 лет назад. В остальном российская тирания остаётся контурной. Она обозначает себя по периметру. Но не пытается быть тиранией на каждом сантиметре площади.
– А наши западные партнёры тоже это понимают? Шаги на «дно», о которых вы говорили, вторая сторона воспринимает всерьёз или как декорацию?
– В значительной мере и эти шаги гораздо более символические, чем настоящие. Да, это зловещая символика, это угрожающая символика. Мы сделали какое-то количество очень резких, очень символических антизападных жестов. Но ведь и не скажешь, что мы сплошным фронтом рвём отношения, прекращаем торговлю, полёты на МКС. Даже координация в Сирии, я уверен, сохраняется.
– Не получится ли со всеми западными партнёрами так, как с Францией? Не придётся ли нам срочно первыми отказываться от общения, чтобы успеть, пока не отказали нам?
– СССР был ужасной тоталитарной страной с догматическими старцами у власти. Он залезал в каждую щель в мире, в том числе даже с помощью поддержки экстремистских вооруженных движений. С военными базами во многих странах. И что? Всё равно все с ним разговаривали. Невозможно не разговаривать, слишком большая страна. И в этом – часть расчёта. Вы можете не разговаривать с Белоруссией – и ладно. Можете не разговаривать с Сербией и даже её побомбить. А тут и побомбить нельзя, и не разговаривать нельзя. Поэтому Россия так себя и ведёт. Это одна из немногих стран, которые могут позволить себе резкие, нестандартные, даже бесцеремонные действия.
Беседовала Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»