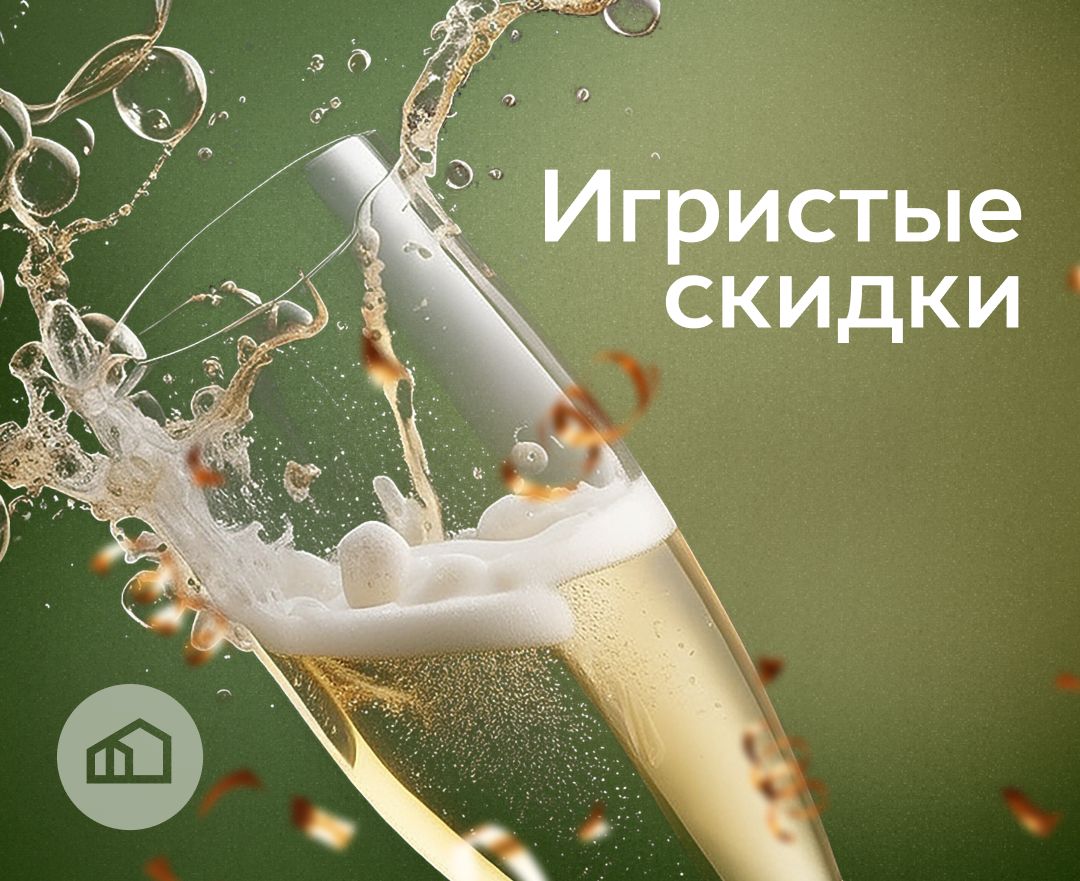День народного единства, отмечаемый 4 ноября, явно не задался. В этом году исполняется 400 лет с момента победы Минина и Пожарского. Когда бы народ считал этот праздник праздником, то в память об обретенном единстве должен плясать был на Красной площади с утра до вечера. А у нас на поверку мало кто вообще понимает толком, что мы празднуем. То ли единство народное, то ли Казанскую Богоматерь, то ли победу над поляками.
На самом деле народным единством у нас озабочена лишь власть. Именно она не слишком удачно навязала обществу плохо осмысленный праздник. Хотела как лучше, а вышло как всегда. Дело в том, что события 1612 года к сплочению нации никакого отношения не имеют. Более того, эти события были совсем не величественным, а наоборот, самым тяжелым временем российской истории – своеобразной аномалией в долгом благополучном существовании державы под скипетром Богом данного нам государя.
Пресечение законной династии в любой стране той эпохи с большой степенью вероятности могло вызвать смуту. Скажем, во Франции практически в то же время, когда у нас пресекалась династия московских государей, окончила свое существования династия Валуа. И хотя престол явно должен был отойти к Генриху IV Бурбону, королю Наваррскому, масштабы французской смуты были ничуть не меньше масштабов нашей заварушки. Генриху IV пришлось, как известно, пожертвовать даже своей протестантской верой («Париж стоит мессы») для того, чтобы утвердиться на престоле. Причем во французской истории тоже, как и у нас, активную роль играли соседи. Для России внешней силой были поляки, для Франции – испанцы. А в начале XVIII столетия, когда пресеклась уже испанская династия Габсбургов, в войне за испанское наследство помимо Франции участвовала чуть ли не вся Западная Европа.
Но вернемся к России. Попробуем поставить себя на место героя той эпохи. Он знает, что царь дан ему Богом, и вдруг законная династия пресекается. И Бог, как назло, ничего не говорит том, каким же образом теперь выходить из столь трудной, непривычной ситуации.
«Бориску на царство»? Возможно. Он, собственно, там уже сидит, да к тому ж породнился через сестру с последним легитимным монархом. Но вот незадача. Правлению Бориса сопутствуют несчастья – голод, неурожаи. Не знак ли это того, что выбор был сделан неправильно? Не Бог ли карает нас за ошибку? И вот уже нет ни Бориски, ни той династии, которую он пытался нелегитимно создать.
Второй вариант решения династического кризиса – внезапное «обнаружение» законного наследника, Лже-Дмитрия. Поди узнай «лже» он или не «лже». Без экспертизы ДНК и всего такого прочего. Будь этот «лже» покруче, сопутствуй ему удача, сумей он харизмой своей пронзить побольше людишек, поверила бы Русь в то, что это законный наследник. А так как был Гришка Отрепьев ни рыба, ни мясо, в сердца подданных опять закралось сомнение: царь-то ненастоящий.
Третий способ – найти настоящего из природных Рюриковичей. К примеру, из Шуйских. Такой вариант тоже прорабатывался. И рухнул в связи с полной непригодностью царя Василия к исполнению обязанностей государя всея Руси. Опять-таки Бог должен был как-то показать, что именно Василия отметил своей печатью. Поскольку есть ведь еще Рюриковичи, которым обидно. А есть Гедиминовичи – тоже ничего себе парни. Вполне приличных кровей. И почему Василию все, а им ничего? Без божьего знака вариант не срабатывает. Но знака нет.
В конце концов, можно призвать царя из иностранной династии. Этот вариант самый эффективный, поскольку не требует от Господа невозможного. Пригласишь соседского принца – и без всяких знаков свыше ясно, что парень не из простых. В этом смысле польский проект отнюдь не был покушением на нашу национальную независимость. Чем королевич Владислав был хуже Гольштейн-Готторпской династии, которая правила у нас под видом Романовых начиная с Петра III?
Вот здесь-то мы выходим на главную проблему Смуты. Царь нам нужен был не русский, а православный. Любой национальности, но правильной веры. Поскольку про национальность, как порождение эпохи национализма, тогда еще никто не знал, а вот за веру стояли горой. Как за форму идентичности, принципиально важную в XVII веке.
Интерпретация Смуты, согласно которой народ обрел вдруг единство и как один поднялся против польской оккупации, чрезвычайно удобна для эпохи национализма, поскольку формирует древние, мифологические корни нации. Но вот незадача: есть маленькая тонкость, которая явно не вписывается в данную концепцию. Земские вожди, включая «гражданина» Минина и князя Пожарского, осенью 1612 г. при решении вопроса о престоле ориентировались на шведский вариант, полагая, что любый им королевич Карло Филипп Карлусович сменит нелюбого Владислава Жигимонтовича.
По сути дела, в Московии между собой боролись две партии – польская и шведская. То, что одна из них сегодня считается группой презренных изменников, а другая - плеядой патриотов и вождей народного единства, мало соответствует реалиям начала XVII века. Для тех реалий важно было совместить православие с королевским происхождением. Однако поскольку это не удалось, в конечном счете реализовался вариант Михаила Романова, который, по сути дела, был повторением варианта «Бориску на царство», реализовавшимся в иных условиях и благодаря этому завершившимся успехом.
В иностранных смутах того времени было, понятно, много национальной специфики, что трансформировало их сценарии в сравнении со сценарием смуты московской, однако в общем и целом все они должны были решать примерно один круг вопросов. В смутах не было ничего романтического, ничего народного, ничего духоподъемного. Только трагическое. В литературе есть, пожалуй, один вполне адекватный источник, позволяющий понять, как все это воспринималось современниками. Я имею в виду исторические драмы Шекспира – драматурга, который жил как раз во времена русской смуты, и хотя писал об английской смуте XV века, но принадлежал эпохе, когда еще не было ни национализма, ни романтической героизации прошлого.
Истинный герой смуты – не «гражданин» Минин и не «патриот» Сусанин, а Ричард III – хладнокровный убийца, пользующийся благоприятным моментом. В какой-то степени понять дух смуты сумел Александр Пушкин, создавший трагического «Бориса Годунова» в эпоху всеобщего доминирования романтизма. Возможно, умение писать вопреки своей эпохе – это и есть признак гения.
Увы, на «Борисе Годунове» не выстроишь героической национальной мифологии. А XIX век – век становления европейских наций – именно выстраиванием такой мифологии постоянно занимался. В истории расставлялись соответствующие акценты. Жестокие герои прошлого, боровшиеся за власть и веру, превращались в благородных героев, думавших о своем народе. Мотивы, которыми их наделяли художники слова и даже историки, были, скорее всего, далеки от тех мотивов, которыми они реально руководствовались в жизни.
Происходило все это отнюдь не только в России. Более того, национализм, скорее, даже приходил в Россию с Запада, поскольку формировался там несколько раньше, чем у нас. Национализм должен был стать той скрепой, которая цементировала общность в эпоху, когда представление о монархической власти, идущей от Бога, начало постепенно разрушаться. Иными словами, если раньше сердца людей загорались любовью к легитимному монарху, поскольку были наполнены искренней верой, то теперь они должны были загораться любовью к некоему воображаемому сообществу – народу.
Попыткой наполнить сердца любовью власть занимается по сей день. Но праздники типа Дня народного единства способствуют лишь наполнению желудков. А сердца остаются безучастны.
Дмитрий Травин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге