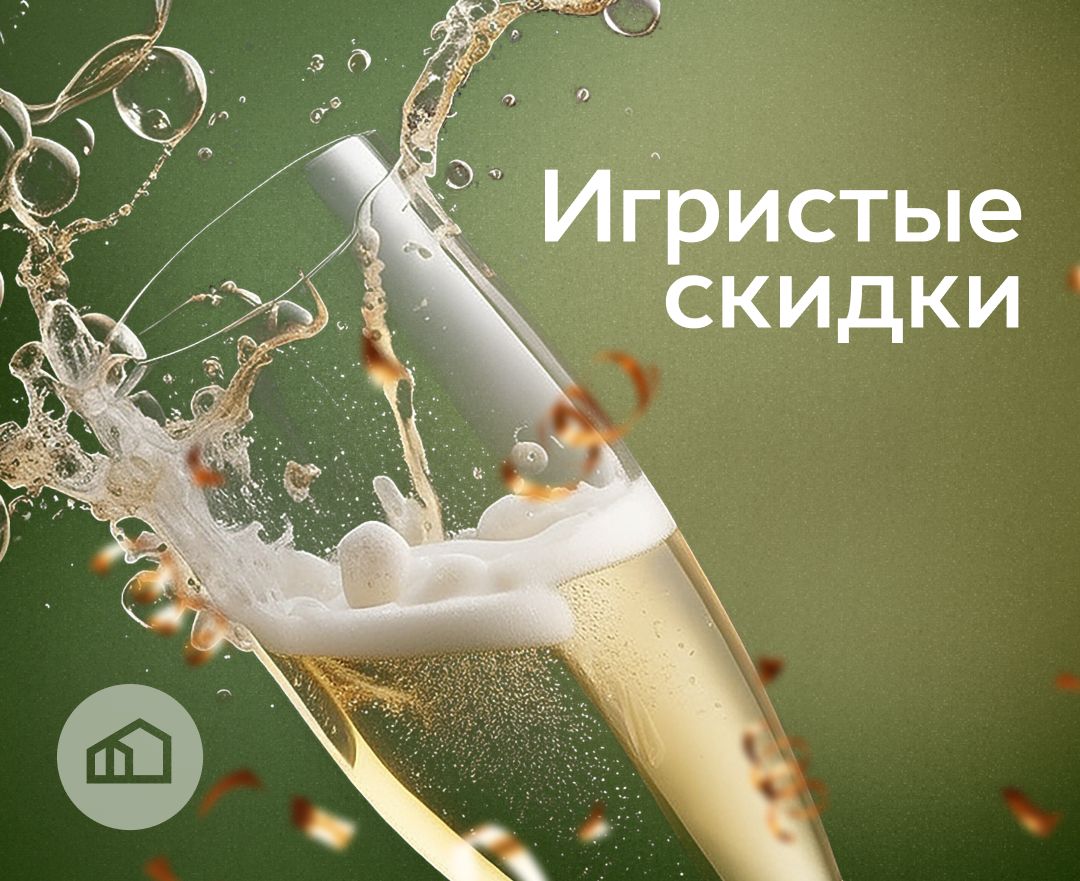Вышел третий, заключительный, том «Собрания стихотворений» нашего земляка Сергея Владимировича Петрова (1911 - 1988) «Неизданное» ("Водолей", Москва, 2011). Однако предлагаемая вашему вниманию статья - не отклик и уж подавно не рецензия на это издание, а парадоксальный оммаж замечательному, но, увы, все еще недостаточно известному поэту в его лингвистической и литературно-экспериментаторской ипостаси.
Загадка «Слова о полку Игореве» волновала меня с юных лет. Строго говоря, и загадки-то никакой не было: так, сомнение, а вернее, тень сомнения в подлинности великого памятника древнерусской литературы.
Но в юношеском, а затем и взрослом антисоветизме любое сомнение автоматически толковалось мной отнюдь не в пользу «Софьи Власьевны». По известному принципу: если Евтушенко против колхозов, то я - за! И если советская власть утверждала аутентичность «Слова», то было оно, казалось мне, совершенно очевидной подделкой.
Вот если бы партия и правительство официально признали неопровержимость доводов Зимина (главного разоблачителя «Слова», с работами которого я был поначалу знаком только понаслышке), тогда оно, разумеется, и впрямь дышало бы подлинной стариной.
Но партия-то утверждала как раз обратное!

Вот, помню, едем мы, стайка молодых питерских литераторов и с нами один москвич, из столицы в Ленинград дневным поездом.
Не «Сапсаном», понятно, - «Авророй». А ходила она тогда разве чуточку медленнее нынешнего «Сапсана», и билет на нее стоил впятеро, примерно, дешевле. Или вдесятеро – если проехаться по чужому студенческому.
Мы и ехали по чужому студенческому. Ленинградцы – потому что уже окончили университет, а москвич – потому что и в школе-то, похоже, никогда не учился.
Во всяком случае, когда он – молодой и нельзя сказать, чтобы полностью бездарный, особенно поначалу, поэт – задумал написать поэму о Наташе Ростовой, содержание «Войны и мира» пересказывала ему, эпизод за эпизодом, тогдашняя жена одного из нас, школьная учительница русского и литературы по образованию и роду занятий.
Поэму о Наташе Ростовой он на момент совместной поездки уже закончил и принялся за «Слово о полку Игореве». Которое, в отличие от «Войны и мира», прочитал от начала до конца, судя по всему, сам.
Прочитал – и обнаружил, что оно будто бы написано в рифму. И тут же, на радостях, перелопатил его – и тоже, естественно, в рифму – на более-менее современный язык. Он и ехал сейчас в Ленинград показать свое детище академику Лихачеву.
А по дороге приставал ко мне, чтобы я прочитал или хотя бы прослушал его «перевод». Приставал бы и к остальным нашим спутникам, но им он успел навязать свое «Слово» еще в Москве.
- Нет, Андрей, я не желаю ни читать, ни слушать рифмованное «Слово», - отбивался я от него. – Рифмованное «Слово» это вообще абсурд. Ведь общеизвестно, что «Слово» написано в подражание «Оссиану», а в «Оссиане» никаких рифм нет – только аллитерации.
А вот академику Лихачеву рифмованный перевод «Слова» понравился - и он даже поспособствовал его публикации.
О мертвых хорошо или ничего. Но я сейчас отношусь к академику Лихачеву хорошо. Во всяком случае, куда лучше, чем при его жизни. И главное, как мне кажется, куда лучше понимаю его мотивы. Мотивы отношения к «Слову», и борьбы за «Слово» в частности.
Академик Лихачев (которого оскорбительно долго не избирали в академики) находился – особенно у ленинградских властей – в перманентной опале. Его, справедливо или нет, подозревали в вольнодумстве и в некоторых других смертных грехах. В определенной – пусть и сугубо абстрактной – непокорности.
И случай Лихачева был, разумеется, далеко не единственным.
Крупному ученому (а Лихачев, безусловно, был крупным ученым), подпавшему под подозрение в вольнодумстве, необходимо было раз навсегда выбрать, что именно он собирается властям впредь доказывать – собственную преданность или собственную незаменимость.
Определенной охранной грамотой могло послужить и то, и другое, - а вот сочетание преданности с незаменимостью, напротив, не срабатывало или, как минимум, настораживало, потому что это был бы уже, как при в игре в очко, перебор.
Гуманитарии как правило выбирали идейную преданность – и занимались они Марксом, Энгельсом, Лениным, международным рабочим движением или, хуже того, советскими профсоюзами и так далее.
Какие-нибудь, наоборот, ядерщики, какие-нибудь ракетчики и прочие оборонщики куда сильнее уповали на собственную незаменимость.
Не каждый из них был Дау или Капицей, но все помнили о том, что Капица сумел вызволить Дау аж из сталинских застенков.
Ну, и академик Сахаров, знаете ли... Когда он, сосланный в Горький, однажды объявил голодовку, я пошутил, что вот, мол, академик наконец-то присоединился к остальному населению города и страны. Хотя по-настоящему не голодал, разумеется, никто, включая и самого академика.
Оригинальность (строго говоря, уникальность) позиции академика Лихачева в годы советской власти заключалась в том, что он, будучи гуманитарием – да еще вдобавок филологом, то есть гуманитарием самого последнего, самого жалкого разбора, - делал, тем не менее, ставку не на преданность, но на незаменимость.
На собственную незаменимость как главного, если не единственного знатока и исследователя древнерусской литературы. Краеугольным камнем которой воздвиглось сгоревшее при пожаре Москвы 1812 года «Слово о полку Игореве».

Сгореть-то оно сгорело, но неизвестно, чем, собственно, была сгоревшая рукопись – подлинником или подделкой.
Я полагал, что подделкой.
Имелся у меня в пользу такой точки зрения серьезный психологический аргумент.
Объявив о находке «Слова», Мусин-Пушкин будто бы скопировал его и преподнес матушке-императрице копию, а вот оригинал оставил у себя в московской коллекции. В составе которой тот впоследствии и сгорел.
Дело тут нечисто, рассудил я. Нечисто потому, что копии царям не дарят. Особенно копии документов, имеющих столь важное, столь (согласимся с академиком Лихачевым) государственно важное значение. Копию ты оставляешь себе, а самодержцу (в данном случае самодержице) даришь подлинник.
Конечно, только в том случае, если речь не идет о заведомой мистификации – причем о мистификации, в курсе которой, естественно, и сама просвещенная государыня. Наш ответ «Оссиану» - и никак иначе.
Я озадачил этим вопросом будущего академика Панченко и - через общих знакомых - профессора Лотмана и не получил сколько-нибудь вразумительного ответа.
Панченко нехотя пробурчал, что, пожалуй, я прав, а Лотман передал, что я, дескать, не учел определенных особенностей вельможного этикета. Хотя из этих особенностей я как раз исходил.
Правда, мою убежденность в поддельности «Слова…» пошатнула работа Олжаса Сулейменова «Аз и Я». «Слово», доказывал он, это своего рода палимпсест: под слоем древнерусского текста мерцает и порой недвусмысленно проглядывает текст тюркский.
Однако это трудно опровержимое доказательство подлинности «Слова» лишало данный памятник литературы государственно-патриотического значения, хуже того, придавало ему значение несколько нежелательное, поэтому академик Лихачев отверг его с надлежащей категоричностью. Именно по его настоянию вредоносная книга «Аз и Я» была изъята из общественных библиотек.

Что же до конкретной полемики, то академик от нее уклонился, указав лишь, что работа Сулейменова не достойна внимания, потому что казахский поэт при работе над ней пренебрег единственно верной лихачевской методикой.
Правда, когда французский исследователь Андре Мэзон, строго придерживаясь лихачевской методики, обосновал подложность «Слова», академик, возражая ему, указал на необходимость уточнить собственную методику.
И с воистину академической невозмутимостью опубликовал в авторском сборнике отповеди Сулейменову и Мэзону буквально рядом, одну за другой.
В наши дни считается, что подлинность «Слова» неопровержимо доказал академик Зализняк. Неопровержимо, потому что методом лингвистического анализа, который, разумеется, куда точнее всех наших чисто умозрительных спекуляций (на тему «мысью по древу» или «мыслью по древу», чтобы ограничиться одним примером).
Однако академик Зализняк делает одну важную оговорку – и сам же ее, похоже, недооценивает. «Слово» аутентично, утверждает он, если только не жил и не творил в XVIII веке некий так и оставшийся неизвестным гений, только которому и удалось бы создать подделку такого уровня.
Случай маловероятный, скажете вы, и я с вами соглашусь (держа, правда, в уме судьбы, допустим, Бараташвили и Блейка, при жизни практически никому не известных).
Однако вероятность подобного поворота событий резко возрастает, если принять во внимание, что в данном случае речь должна идти не о гении словесности (масштаба Пушкина или Гете), а всего-навсего о гении стилистики или, если угодно, гении стилизации, - иначе говоря, об отечественном Макферсоне (создателе Оссиана и его песен), - о чем, собственно, с самого начала и говорили противники «Слова».
Говорили и говорят, указывая предположительные кандидатуры автора «Слова» (скажем, Й. Добровского) и образец для подражания – «Задонщину», - которая, в рамках этой версии, «Слову», разумеется, предшествует.
Стилизатор стилизатору рознь. Если же говорить о гении стилизации (который не был бы при этом гением словесности), то одного такого я знал лично – и, кстати, как оригинальный автор он при жизни оставался практически неизвестным, да и сейчас, мягко говоря, знаменит не очень.
Это ленинградский поэт-переводчик (а также поэт, прозаик, эссеист и филолог) Сергей Владимирович Петров.
Петров был полиглотом, причем, если так можно выразиться, диахронным полиглотом. То есть знал, например, в совершенстве не только немецкий, но и древневерхненемецкий, средневерхненемецкий и готский. Но лучше всего он – опять-таки в диахронном разрезе – знал русский.
Сергей Владимирович сам рассказывал мне, как на спор с другим филологом, Ахиллом Левинтоном, «переводил» русские тексты XVII века на язык XV, а потом и на язык XIII, а его оппонент тщетно выискивал в этих «переводах» хотя бы одну ошибку.
Для чего необходимы как колоссальные лингвистические познания, так и феноменальное языковое чутье. И Петров, бесспорно, обладал и тем, и другим.
А плюс к этому еще и любовью к розыгрышам и мистификацией. Чего стоил хотя бы его доклад «Уникальный случай русской синонимии» с перечнем и анализом нескольких сотен синонимов, включая окказиональные, к слову «дурак».
Отдельно, для самых умных, поясню, что я, естественно, отнюдь не выдвигаю С.В. Петрова на роль предполагаемого сочинителя «Слова о полку Игореве». А вот живи Петров в XVIII веке… Или, вернее, а вот если бы в XVIII веке жил кто-нибудь вроде Петрова – и попади такой человек в поле зрения Мусина-Пушкина.
Вот он бы и написал (а может, и написал) «Слово».
Редкость, конечно, но все же не редкость-редкость.
Так что вопрос открыт.
Кстати, в 1930-е годы ходил анекдот об ученых евреях, сочиняющих для русского народа его былины. «Ох ты гой», - начинает один; «еси», - подхватывает другой; «добрый молодец», - заключает третий.
И вдвойне кстати: уж не на тему ли предполагаемой подложности «Слова о полку Игореве» пошутил Булгаков, вложив в уста Воланду сакраментальную и объективно издевательскую – на единственно релевантном фоне судьбы второго тома «Мертвых душ» - ложь о том, что рукописи якобы не горят?
Так или иначе, у Мусина-Пушкина было на сей счет иное мнение.
И он сумел убедить нас в своей правоте. Правда, не до конца и не всех.
Виктор Топоров, специально для «Фонтанки.ру»