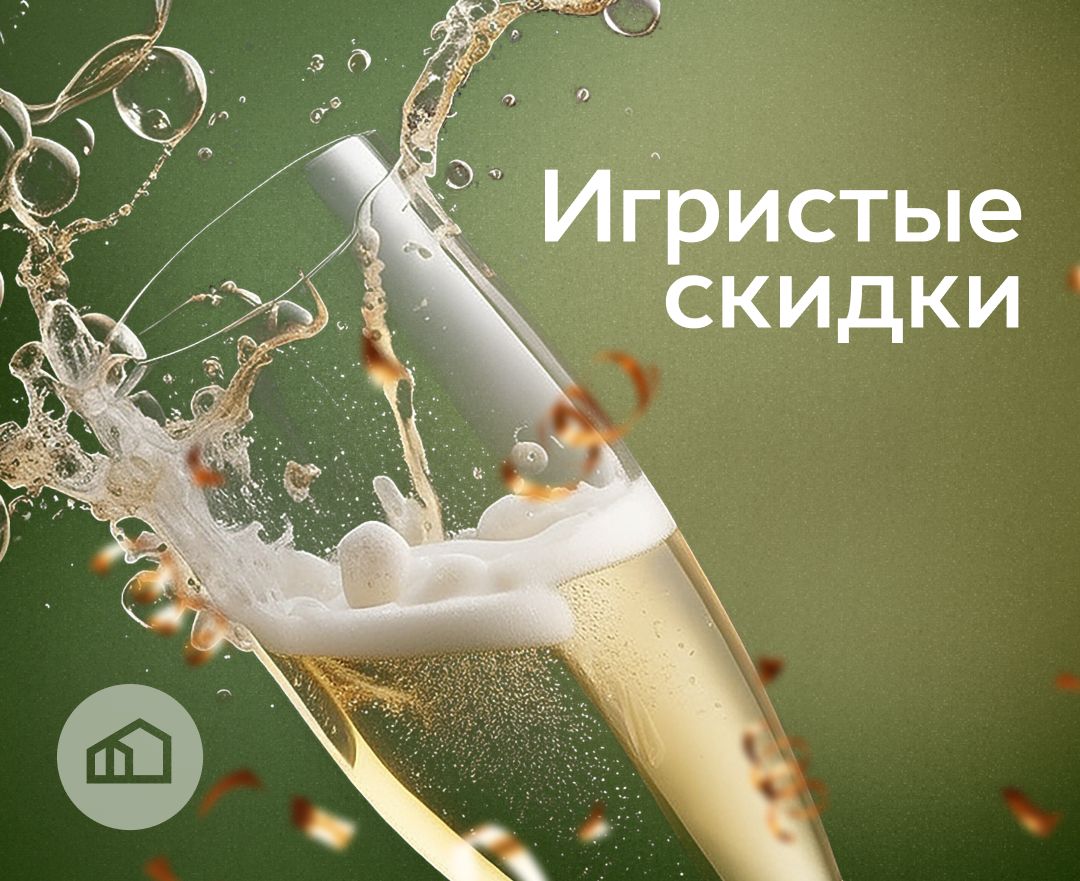Дирижер Марк Минковски, одна из самых заметных фигур французского музыкального истеблишмента, впервые приехал в Петербург и дал единственный концерт на сцене КЗ «Мариинский». Слушая романтическую и постромантическую музыку в его исполнении, обозреватель «Фонтанки» пережил катарсис.
Вообще-то, Минковски - знаменитый «старинщик», один из мировых лидеров так называемого HIP-исполнительства (HIP - исторически информированное исполнительство). С помощью созданного им 30 лет назад оркестра «Музыканты Лувра» он вывел из тени композиторов эпохи барокко - Рамо, Люлли и Шарпантье. Так что романтический репертуар, с перенасыщенными фактурами, кипением эмоций и ярко драматическим типом высказывания, – для Минковски не совсем привычная музыка.
Даже в оперном театре, где Минковски год от году все более востребован, он предпочитает не слишком далеко отдаляться от XVII - XVIII веков. Он дирижирует операми-балетами Рамо вроде знаменитой постановки «Платеи» в Парижской опере либо операми Генделя. В прошлом сезоне он занимался «Альчиной», представив ее в оперных театрах Вены, Парижа и Лондона. Зимой в Зальцбурге исполнил одноактовку «Ацис и Галатея», а будущим летом представит на летнем Зальцбургском фестивале «Тамерлана» в концертном исполнении.
Однако же жизнь и насущные требования актуального концертного процесса властно подталкивают Миковски к XIX и XX векам. Уже значится в планах «Турандот» Пуччини в театре Ла Монне в Брюсселе. А несколько лет тому назад в Москве Минковски стал безусловным «культурным героем», поставив «Пеллеаса и Мелизанду» Дебюсси в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. Оркестр столичного театра под его руками преобразился совершенно: зазвучал восхитительно стильно, волшебно, каким-то необъяснимым образом переняв от дирижера европейскую выправку, манеру звукоизвлечения – да что там, самый способ мышления, чувствования и слышания. За что Минковски совершенно заслуженно получил «Золотую маску», доказав, что истинный мастер владеет любым репертуаром и может научить хорошим манерам любой оркестр.
Нечто похожее случилось и с оркестром Мариинского театра. Это походило на чудо: закрывая глаза, я вслушивалась в абсолютно непривычный для «мариинцев» саунд, с которым они вдруг заиграли Франка и Форе. Трудно было поверить, что на сцене сидят много раз слышанные музыканты из элитного гергиевского оркестра - до того поразительные метаморфозы произошли с фирменно ярким, горячечным, объемным звуком «мариинцев».
Интонация романтического вопроса, которой проникнута первая часть Симфонии Сезара Франка – самого классичного, сдержанного в выражении чувств французского романтика, - прозвучала во вступлении тихо и потаенно и притом сугубо значительно, будто игралась не светская симфония, но часть Мессы «Из глубины взываю». Экстатический прорыв побочной темы Минковски провел мастерски, ни на секунду не теряя контроля над целым. Умело подвел оркестр к главной кульминации; как оказалось, французский дирижер, в котором весьма сильно рацио, замечательно умеет рассчитывать нужную длину и высоту кульминационной дуги. Таким внутренним видением архитектоники целого обладают немногие элитные дирижеры. Минковски выстраивал форму добротно, кирпичик к кирпичику: здание симфонии Франка получалось, быть может, слегка предсказуемым, но очень цельным.
Предварившая Франка «Павана» Форе, с ее меланхоличной, щемящее прекрасной, длинной мелодией, расцветающей над ворохом фактурных вариаций, протянула незримые нити к Реквиему Форе – абсолютно неконвенциональному в смысле жанра и образного строя сочинению. Удивительной чистотой, отрадным благолепием повеяло вдруг; звучности хора и оркестра истончились до прозрачности, даже призрачности, истаивая нежнейшими обертонами.
Минковски демонстрировал в Реквиеме искусную звукопись: осторожно накладывая слои один на другой, добивался поистине акварельного, слегка размытого эффекта, предвещавшего импрессионистические открытия в области оркестровки. Тембры буквально просвечивали друг сквозь друга. Это было странно и неожиданно – наблюдать, как преображались струнники, годами приученные играть предельно экспрессивно, жирным, «мясистым» звуком. Они уже не щеголяли размашистым вибрато, чуть не выпрыгивая из штанов в моменты кульминаций. И духовики заиграли на диво стройно, четко и – тихо. Хор внезапно отрешился от густого, плотного звука, проникнулся меланхолическим настроением Реквиема, в котором Форе напрочь отказался от всех драматических и мрачных эпизодов канонической траурной мессы, связанных с божьим гневом, горем, трагедийными переживаниями. В его Реквиеме не было части Dies Irae – «День гнева». Не было и Et incarnates est – «И воплотившегося». Не было даже Tuba mirum – труб, возвещающих о конце света. Всепроникающая элегичность объединяла единым настроением все семь частей цикла - от «Kyrie» до «Libera me» и «In Paradisum», - окрасив реквием исключительно в светлые, пастельные тона; музыка была проникнута искренним религиозным чувством.
Тихо и грустно, под мерную поступь органа вступили мужские голоса; легко взмывали женские, паря под самым потолком, будто уносили в небесную синь восходящие потоки воздуха. В Offertorium («Жертве») проскользнули, было, нарочито архаизированные полифонические фрагменты. Но вскоре гармоническая вертикаль вступила в свои права, активизировались басы, и узорная имитационная вязь голосов вновь оплотнела, слиплась в аккорды.
Хороша была и Анастасия Калагина в сольном номере Pie Jesu: тихо, очень плавно вела мелодию, вполне вписавшись своим колоратурным сопрано в общий умиротворенный колорит музыки. Несколько хуже получилось у Евгения Уланова: его баритон казался слишком груб и звучен для такой небесной музыки.
Во время благостного финала – In Paradisum – на минуту почудилось, будто, как на полотнах Гвидо Рении, разверзлись небеса, раздвинулись перистые облака, окрашенные рассветным румянцем, открылась небесная сияющая синева, и звуки музыки устремились прочь от земли – туда, в вышину, словно повинуясь незримой воле.
Гюляра Садых-заде,
«Фонтанка.ру»
Фото: пресс-служба Мариинского театра/В.Барановский