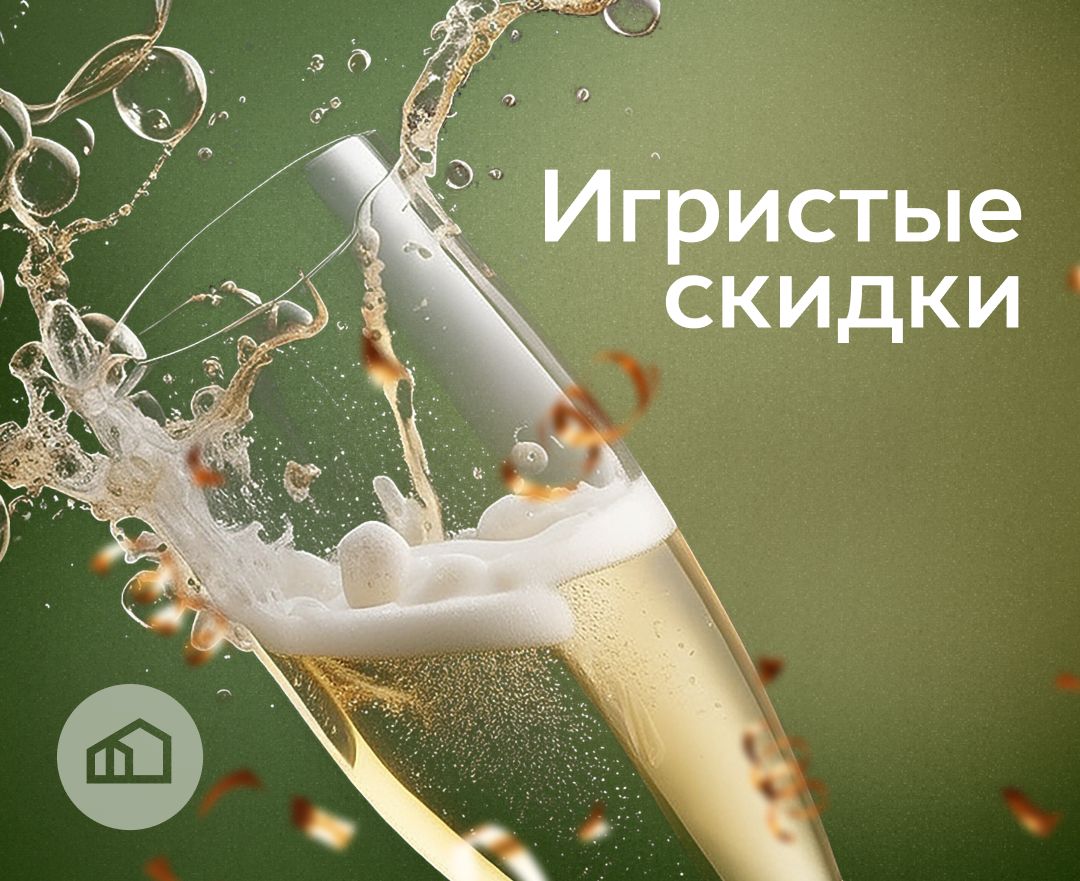Вчера в Александринском театре состоялась торжественная церемония вручения XIV Европейской театральной премии и XII премии «Новая театральная реальность», ставшая кульминационным аккордом шестидневного форума, для участия в котором в Петербург приехали театральные труппы из Германии, Испании, Португалии и Чехии. «Культурная столица» представляет открытие фестиваля – уникального финского режиссера Кристиана Смедса и его спектакль «Мистер Вертиго».
Петербург стал четвертым адресом прописки экс-таорминской премии, до того вручавшейся в итальянском Турине, греческих Салониках и польском Вроцлаве. Локомотивом проведения всех мероприятий Премии в России выступил собаку съевший на организации театральных форумов всех мастей и калибров «Балтийский дом», поддержанный городским правительством и Минкультом РФ. Принимать Европейскую театральную премию именно в 2011-м Петербургу не только почетно, но и логично - в этом году в числе ее лауреатов третий за историю Европейской театральной премии российский представитель: после Льва Додина (получившего главную награду в 2000 году) и Анатолия Васильева (ставшего лауреатом дочернего приза - «Новая театральная реальность») премией в номинации «Новая театральная реальность» награжден Андрей Могучий (основатель «Формального театра», а ныне режиссер Александринского театра).
Финн Кристиан Смедс, которому посвящен этот текст, получил приз в той же номинации, что и Могучий. И о его «новой театральной реальности» стоит сказать особо. Ибо до сих пор показать в Петербурге спектакли Смедса не удавалось ни одному из городских фестивалей: режиссер склонен к сложносочиненным масштабным зрелищам, практически не поддающимся транспортировке. Так что о Смедсе в Петербурге знали понаслышке, но достаточно много, чтобы желать непосредственного знакомства. Прежде всего говорили о редкой степени художественной и человеческой свободы самого Смедса, которой вдохновлены все его постановки. В международной прессе можно было прочесть, как смело режиссер смешивает в своих зрелищных шоу высокие театральные традиции с самыми расхожими стереотипами современного масскульта. О том, что сцена для Смедса – это прежде всего арена для решения самых болезненных общественных и социальных вопросов. О том, что театр для автора проекта «Ментальная Финляндия» и постановщика главного романа финской литературы «Неизвестный солдат» – инструмент национальной самоидентификации. И, в конце концов, о том, что в его спектаклях расстреливают портрет президента страны, а за самим Смедсом пристально следят агенты Финской службы безопасности – что, впрочем, не мешает каждой премьере Смедса становиться событием национального масштаба.
И вот Кристиан Смедс дебютировал в Петербурге. Степень ажиотажа, сопутствовавшего двум показам его «Мистера Вертиго» - спектакля по мотивам романа американского писателя Пола Остера, сравнима разве что с ежегодными штурмами «Балтийского дома» во время гастролей Эймунтаса Някрошюса. Зрители и актеры размещались на сцене – а значит, посмотреть спектакль могло лишь строго ограниченное число зрителей, – большая часть мест распределилась между участниками и гостями Премии. До Хельсинки, где базируется труппа Смедса, разумеется, рукой подать, но показ этого уникального произведения театрального искусства именно в России немедленно установил четкую планку профессионального мастерства, его критерии, и со всей очевидностью проявил серьезнейшие проблемы в самых основах национального театра.
Прежде всего – в театральном образовании. В лучших труппах страны немного наберется актеров, которые бы владели своей психикой, были настолько физически натренированы и существовали на сцене с таким бесстрашием, как артисты Smeds Ensemble, для которых первый акт «Мистера Вертиго» оборачивается без малого двумя часами испытаний огнем, водой и медными трубами. Сюжет о сироте и беспризорнике Уолтере, взятом на поруки таинственным Мастером Иегудой и под его руководством преуспевшем в искусстве левитации, разыгрывается Смедсом как притча о профессиональном становлении актера, его пути к внутренней свободе и одновременно как путешествие по театральному закулисью.
Первый акт зрители смотрят, сидя на воздвигнутой в центре подмостков трибуне, вращающейся на поворотном круге вокруг многочисленных площадок для игры: симультанный принцип сценического действия «Мистера Вертиго» отсылает к моделям средневекового площадного театра. То и дело действие выплескивается в пустынный зрительный зал – пространство которого у Смедса выглядит не менее бескрайним и не менее опасным, чем американские прерии: дикость остеровского Запада Смедс рифмует с дикими нравами театральных задворок. В самом начале спектакля прямо перед зрительской трибуной опускается железный пожарный занавес, и публика оказывается запертой в коробке сцены в полной темноте – вместо эпиграфа «Мистера Вертиго» Смедс напоминает о том, что билет в театр для актеров, режиссеров и прочих практиков - это всегда билет в одну сторону. Суть «Мистера Вертиго» – в свободе театральной поэзии, мощному потоку которой тесно в сценической коробке.
Уолтера мучают, стращают, унижают, то подвешивая на деревянном шесте, как пойманного зверя, то стреляя в стаканы, расставленные на его голове и руках, ему отрубают палец, его распинают на кресте – при этом эффект ужаса достигается не за счет натурализма зрелища, оно-то как раз подчеркнуто театрально (например, все необходимые звуки на глазах у зрителя производят сами артисты, терзая музыкальные инструменты), а за счет высоковольтной экспрессии артистов. И еще, само собой, - за счет режиссерской фантазии и отваги, которые простейшими до наивности средствами достигают эффекта магии. Ну, скажем, чтобы изобразить пещеру ужасов, Смедсу оказывается достаточно нескольких стереоскрипов и стереошумов и шести ярких фонарей – и, конечно же, тех тотально воздействующих психологических жестов, которыми владеет исполнитель роли Уолтера. Все нешуточные испытания при всем остроумии иных эпизодов – как, скажем, эпизода с медвежьей болезнью, поразившей Уолтера при звуке оваций, - нужны для того, чтобы преодолевший профессиональную робость герой в финале так мистически-красиво воспарил над пустым зрительным залом вопреки всем законам гравитации.
Собственно, в начале второго акта публика сначала рассаживается в зрительном зале и любуется на практически пустую сцену, где из декораций – лишь старинные театральные люстры с отражающимися в зеркальном полумраке горящими свечами. А ближе к финалу тот самый Мастер Иегуда, что истязал протагониста спектакля, – alter ego самого Смедса и собирательный образ режиссера-демиурга – приглашает зрителей собраться вокруг него в тесный, практически семейный круг на сцене. Тут Иегуда произносит долгий монолог по-фински, но что именно он говорит – не так уж важно: понятно, что его пламенная речь – о театре, о его загадках и таинствах. И тут ты волей-неволей вспоминаешь, как в первом акте взгляд скользил по гримировальным столикам, на которых вместо икон стояли выцветшие от времени фотографии легендарных финских актеров прошлого. И как пожилая актриса – как рассказал потом сам режиссер, шестьдесят лет проработавшая в Финском национальном театре, – что-то страстно внушала только пополнившему театральную семью новобранцу Уолтеру. В «Мистере Вертиго» Смедсу удается как нельзя более остро передать то неуловимое, но известное каждому чуткому зрителю ощущение театральной метафизики. И метафизики вообще, без которой не может быть настоящего театра.