
Петербургский ученый Михаил Дубина получил золотую медаль ЮНЕСКО за вклад в развитие нанонауки. В интервью «Фонтанке» ученый рассказал, что именно он развивает и почему в России нанотехнологии были обречены на осмеяние.
Пока в соцсетях нанотехнологии воспринимаются как термин для создания комического эффекта в демотиваторах, ЮНЕСКО ежегодно присуждает ученым золотые медали за вклад в развитие нанонауки. В 2016 году из восьми лауреатов половина — россияне. В их числе петербуржец Михаил Дубина, заведующий лабораторией нанобиотехнологий, первый проректор Санкт-Петербургского академического университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН. «Фонтанка» попросила ученого объяснить в понятных словах, что сегодня не так с российскими нанотехнологиями, если за рубежом за них дают медали, а в России про них ничего толком не известно, не напрасно ли академики противились реформе РАН и чем все-таки занимаются в «Сколково».
– Михаил Владимирович, в 2013 году в журнале «Эксперт» вы опубликовали в ответ на реформу РАН эссе под пессимистичным заголовком «Сумерки науки — закат страны». Все же вроде бы обошлось, РАН функционирует, академики работают?
– Науку в России реформировали и раньше, но никогда не было так, чтобы у научного сообщества забирали все средства для реализации науки.
Образно говоря, академики рулили некоей машиной. Может быть, рулили не очень хорошо. Да и машина поизносилась. Но как минимум надо было спросить у научного сообщества, как они себе эту реформу представляют.
– И эта дискуссия затянулась бы лет на 10.
– Либо надо было поставить четкие задачи. А получилось, что академиков, которые были за рулем, пересадили даже не на пассажирское сиденье, чтобы они показывали чиновникам, куда ехать. И даже не в кузов. Их же "повысили" — посадили на крышу. Чтобы они оттуда, с крыши, указывали чиновникам дорогу.
Не зря, наверное, президент нашей страны Владимир Путин уже третий год продлевает мораторий на управление имуществом и кадрами Российской академии наук. Значит, что-то не так было сделано. В январе 2016 года на заседании Совета по науке и образованию при президенте этот мораторий продлен еще на один год.
– Можете привести конкретный пример негативных последствий реформы?
– Негативные последствия в науке, к сожалению, проявляются не сразу.
– Два года ведь уже прошло.
– И что? Формально все в порядке: бывшие институты трех академий деньги получают, людей не увольняют без видимых причин. Внешне все хорошо, и вроде бы нет повода плакаться. Чиновники что-то упорядочивают, вот массу какого-то академического имущества «нашли». Как можно найти государственное имущество? Оно и было государственным, но в оперативном управлении. Но они меняют директоров научно-исследовательских институтов на людей, у которых даже научных степеней нет. А негативные последствия скажутся потом. И, наверное, если не будет такой же критичной и срочной востребованности прорывных научных результатов, как во время Великой Отечественной войны, последствия могут не сказаться никогда. Формально все есть, академия существует. Но умирает.
– Критическая востребованность может наступить в любую минуту — сейчас же снова враги кругом, и снова только два союзника у России: армия и флот.
– Да, так и есть. Но острый момент осознания этого еще не наступил. Например, реальное осознание значимости фундаментальных научных заделов в нашей стране в прошлом веке по-настоящему пришло даже не до, а после Великой Отечественной. Когда были взорваны Хиросима и Нагасаки. Когда стало понятно, что все достижения Великой Победы, за которую были отданы десятки миллионов жизней целого поколения, могут быть просто стерты.
Но ведь никто не изобретал атомную бомбу из интереса, чтобы потом предложить государству. Для свершившегося после 1945 года научного прорыва нужны были квалифицированные кадры, научные направления, которые могли бы стать основой для быстрой реализации государственного запроса. А мы сейчас идем к тому, что у нас и этого не будет. Встанет вопрос, что нам срочно что-то нужно. И отвечать на него будет директор института, который ничего не знает. Зато создан им четко управляемый, но не творческий коллектив.
– Считается, что нанотехнологии — это не только польза, но и одна из главных угроз будущего.
– Абсолютно верно. Синтетические вещества размером до 100 нанометров не только проявляют новые свойства, но и проходят через все биологические барьеры.
– Это серьезнее, чем биологическое оружие?
– Я считаю, что особо опасные вирусы гораздо серьезнее. Но с помощью нанотехнологий можно создать направленное оружие, которое в перспективе сможет поражать только врага, «обходя» своих.
Шарль де Голль говорил: «Мы всегда готовы к предыдущей войне». На момент начала следующей войны мы не знаем, что победит. В XVIII веке и в Первую мировую это была конница, а победила техника (артиллерия, танки, самолеты), с которых начиналась Вторая мировая. А Третья мировая – «холодная война» – началась с атомного сдерживания. Но победила в итоге экономика. Что станет оружием в дальнейшем и победит экономику, еще неизвестно.
– Есть мнение, что в нашей стране политика активно громит экономику, которая, судя по всему, победила науку. Или еще не все потеряно?
– Проблемы для общества, как следствие вреда, наносимого науке, проявляются через много лет. Самый яркий пример в советское время – генетика. С идеологической точки зрения, генетика тогда была признана наукой буржуазной и не нужной Советскому Союзу. Мы не развивали эту область. В результате генетика сегодня является основой биофармацевтической промышленности. А у нас не сформировались научные направления, у нас не было задела. Мы его разрушили. Вот сейчас такое же разрушение ведется по всей науке в целом.
– Но кто-то же, как лягушка в кувшине с молоком, барахтается. И даже медали ЮНЕСКО за это получает. Кстати, за что именно?
– Эту медаль мне присудили не за конкретное достижение, а за совокупность работ.
– А что это за награда, какова ее репутация в научной среде?
– Честно говоря, понятия не имею. Для меня важнее оценка моих коллег, а не медали, которые навешиваются. Я воспринимаю это как достижение всего коллектива, работающего под моим руководством. Мы занимаемся многими направлениями, от создания новых лекарств и методов лечения онкологических заболеваний, например рака молочной железы и рака крови, до ранней диагностики социально опасных заболеваний с использованием новейших физических разработок.
– А есть ли у вас технологии, которые уже внедряются в практику?
– Чтобы внедрять что-то в практику — для этого должна быть, собственно, практика. Должна быть индустрия. Масштабное производство.
– Но в Петербурге же развивается целый фармкластер.
– Любые фармацевтические компании вкладывают ресурсы, как правило, рассчитывая на собственные разработки и исследования. Отечественные фармацевтические производства специализируются в основном на дженериках – то есть используют знания о тех препаратах, которые уже исследованы и показали коммерческую выгоду на рынке, на разработку которых уже были затрачены миллиарды долларов. Создать дженерик и запустить его на рынок — это основной «инновационный» подход сегодня.
Покажите мне хотя бы одно лекарство, которое было разработано в России после 80-х годов?
– А "Фейсбук" и Интернет в целом почему так мало знают о российских нанотехнологиях?
– Самый легкий способ — это сравнивать российский и зарубежный опыт по практическому приложению научных разработок. Но на Западе есть целая индустрия, которая востребует научные результаты, например чтобы обойти конкурента. И они требуют: дайте нам что-то новое. А у нас требовать некому. Даже если бы сейчас вдруг оказалось множество собственных конурентных разработок — но кто возьмет их здесь, в России? Есть ли собственная масштабная индустрия, которая будет рисковать миллиардными вложениями для того, чтобы обойти на рынке западных конкурентов?
– На примере какой-нибудь вашей разработки можем смоделировать идеальную ситуацию? Например, есть у вас методика диагностирования рака. Для того, чтобы провести ее через все испытания и вывести на рынок, надо столько-то миллиардов, зато через столько-то лет ее можно будет использовать и спасти от рака молочной железы половину женщин в Петербурге.
– На самом деле все не так. Вы все не совсем правильно понимаете. Начинать надо с обратного. Для любого заказчика, будь то фармацевтическая индустрия, или медицинская отрасль, или военное ведомство, нужен конечный, эффективный, конкурентоспособный продукт. Вещество, лекарство, технология и т.п. Так вот, они прежде всего оценивают объем вложений, чтобы получить один конечный конкурентоспособный продукт. Если какая-то биотехнологическая компания планирует получить диагностический инструмент, она сначала должна дать научному сообществу гранты или завести у себя научно-исследовательский отдел, который за какое-то время будет разрабатывать разные подходы к проблеме.
- И может заниматься этим 20 лет.
– Да, а может, это и за год произойдет — никто не знает. И этот отдел наработает массу всего, множество химических веществ синтезирует. На этом этапе можно определить затраты. Дальше надо выбрать, что из всего этого будет работать не только на клетках, но и на животных. Исследования на животных — жутко затратное дело. И потом начинается первая из четырех фаз клинических испытаний с участием людей. Наименее опасные образцы идут во вторую фазу испытаний и так далее. В результате фармкомпания получает эффективное лекарство стоимостью до миллиарда долларов, который она внедряет на рынок, рассчитывая покрыть затраты и получить прибыль. Но и "отсеянные" на первых этапах потенциально эффективные технологии тоже являются доходом. «Сырые» патенты покупают другие компании для создания "собственного продукта". Этим занимается большинство фармкластеров в Индии, в Китае. И в России.
– Для кого вы работаете, если реализовать результаты труда в России невозможно?
– Для будущего.
– Будущее настанет, а технологии устареют.
– А что делать, если не нужно все это нашему времени. Например, законы Менделя были открыты на сто лет раньше.
– Ну какой-то же поворот в мозгах у элиты происходит, наверное? Все начинают всматриваться в свое, родное, отдыхать в России, печься об импортозамещении. Чувствуете, что какой-то сквознячок подул и в вашу сторону?
– Мы все это слышим, но как мы должны это почувствовать? Придет вдруг добрый богатый дядя и спросит: а есть у вас разработки, которые мы готовы реализовать в бизнесе и затратить миллиарды долларов?
– А вдруг придет? Что вы ему скажете?
– Мы скажем: возьмите. Для чего же мы постоянно публикуемся в зарубежной и отечественной печати?
– И какая разработка самая «готовая» сегодня?
– Например, диагностика неизлечимого рака молочной железы. Самая большая проблема с раком молочной железы в том, что в 30% случаев рецидив заболевания возникает даже после удаления опухоли на ранних стадиях и полноценного высокотехнологичного лечения, включающего химиотерапию, иммуномодуляторы и лучевую терапию. И проблема в том, что заранее никто не может прогнозировать, помогут тебе все эти методы лечения или нет. Для женщин это принципиально важно — попадешь ты в группу, и тебе вовремя проведут релевантную терапию, или тебе надо в группу, которую заведомо надо лечить химиопрепаратами. Такая диагностика не интересна для фармацевтических компаний. Но мы взяли образцы пациенток, которым любая терапия не помогает вообще, и сравнили с образцами тех, кому терапия помогла. Если отталкиваться от того, кому впоследствии можно было бы продать разработку, — это приспособленчество, а не наука. Вот идти в зону неизвестного, не зная, что ты получишь и можешь ли получить вообще, — это наука. А стремиться набрать грантов и вовремя отчитаться по ним или совместно с зарубежными исследователями напубликовать кучу высокоимпактовых статей — это не наука.
– То есть вы стали искать в группе заведомо обреченной.
– Да, мы стали искать там. Стандартными методами, даже западными, отличий было не найти. А вот с технологией полногеномного секвенирования на 6 млн участков генов, которую в Стэнфорде недавно разработали, — а обычно смотрят 600 тысяч участков, — различия нашлись. Они могут стать основой для диагностики тех случаев, когда у пациентки обнаруживается подозрительный ген. Например, такой, из-за которого Анжелина Джоли, говорят, удалила себе молочные железы, и может быть, что напрасно. Да, нарушение гена BRCA-1 в 80% случаев приводит к развитию рака молочной железы. Но, может быть, она относится к оставшимся 20%?
– А сейчас вы могли бы дать ответ на этот вопрос?
– Пока не могли бы. Но если исследования будут поддержаны, вероятно, сможем. Хотя кому бы это было бы нужно? Фармацевтическим компаниям это не нужно, прибыли здесь не будет. Это, очевидно, нужно тем женщинам, которых будут долго лечить заранее неэффективными токсичными препаратами, а не искать новые методы излечения. Но у нас весь мир ориентирован на экономику, а не на человека.
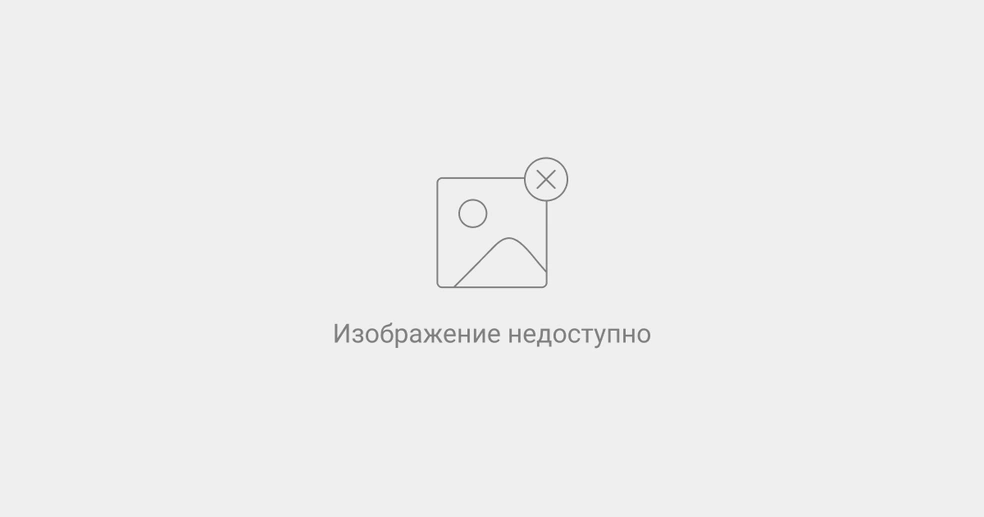
– Как вам удается договариваться с этим государством, которое тоже, получается, ориентировано на экономику, а не на человека?
– Мы не договариваемся, а живем в нем. У нас здесь, в Академическом университете, не на словах, а на деле процветает культ науки и образования. И я горжусь тем, что работаю в таком коллективе.
– Термин «нанотехнологии» в обиходе используют не по назначению?
– Ну, назвали так область по размерной категории частиц — от 1 до 100 нанометров. Какая разница, как называть? Нанотехнологии определяются не только размером частиц, но и их искусственным происхождением, а главное – управляемостью процессов. Вот говорят: масло нанотехнологичное, или крем. Ну где же там нанотехнологии? Чем мы там управляем?
– А почему в России нанотехнологии стали именем нарицательным и вызывают преимущественно сарказм?
– Думаю, что этот термин заведомо был обречен на осмеяние. Это примерно как заявлять, что мы преобразуем мир – без более или менее серьезного фундамента знаний. Эдакие Нью-Васюки. Причина – громогласные заявления, особенно людей, которые действительно не понимают, с чем имеют дело.
– Это Чубайс, получается, виноват, он же заявил в 2009-м, что к 2015-му нанотехнологии должны стать основой экономики?
– А кто Чубайс по образованию? И почему он делал такие заявления? РОСНАНО исходно не было заточено на науку. Это коммерциализация. Но чтобы коммерциализировать какую-нибудь нанотехнологическую разработку, ее сначала надо изобрести. Ведь цель была – сразу создавать компании и продавать. А что продавать-то?
– То есть РОСНАНО опередило свое время.
– Что ж, будем считать так. А «Сколково» действует более широко.
– Что, еще сильнее опережает?
– Это фонд коммерциализации научных разработок. И "Сколково" тоже не вкладывает деньги в научные исследования.
– Но вы же состоите в консультативном научном совете фонда «Сколково».
– Мы консультируем, когда нас спрашивают.
– А когда в последний раз вас в «Сколково» о чем-то спрашивали?
– Мы заседаем каждый квартал. Один-два дня. Заслушиваем отчеты о том, что сделали кластеры по отдельными направлениям. Сотрудники фонда сами принимают решения, что важно, что не важно. Это же бизнес-сообщество. Там отбор коммерчески значимых проектов происходит "невидимыми" экспертами — не нами. И то, что мы высказываем свое мнение, не мешает процессу — караван идет.
Но я верю в то, что прогресс науки поможет в конце концов победить мракобесие. Но, видимо, только тогда, когда это мракобесие дойдет до своего очередного апогея.
– То есть сейчас еще не апогей?
– Нет, что вы. Вот когда скажут, что спутники на самом деле не летают и вообще космоса нет — тогда пора будет поднимать старые манускрипты и жечь очередного Джордано Бруно.
Вот здесь, в Академическом университете, у нас оазис. Ни в одном другом учреждении в стране нет такой свободы творчества, которую создал замечательный человек, ученый и гражданин — единственный живущий в России нобелевский лауреат академик Жорес Иванович Алферов. Ему не нужно самоутверждаться. Он понимает, что будущее растится сейчас. И он поддерживает научные проекты, которые не обязаны немедленно приносить прибыль здесь и сейчас. Проекты, в которых ставятся заведомо непреодолимые, прорывные задачи. Думаю, что это можно сравнить с физиками-ядерщиками 30-х годов. Как на них смотрели в период подъема народного хозяйства, когда стране нужны были новые плуги и тракторы? Чем они занимались с точки зрения власти? Они не вноcили свою лепту в народное хозяйство. Хорошо, всех не убили к тому моменту, когда они реально потребовались.
– А потом их рассадили по шарашкам при лагерях, и там они оказались очень полезны.
– Что ж, наверное, шарашка — это и есть оптимальный путь для создания и развития чего-то нового. И если потребуется стране, то я с удовольствием пойду в такую "шарашку", где были бы собраны талантливые ученые и ставились бы реальные задачи научного прорыва, обеспеченные всемерной поддержкой общества и государства.
– А семья ваша что на это скажет?
– В шарашках тоже были семьи — в поселениях рядом.
– Вы что, на полном серьезе считаете, что ученых надо собрать и запереть где-нибудь на Соловках?
– Нет, конечно. Я за то, чтобы власть показала реальную заинтересованность в том, что делает наука. А не формальную: сколько имущества можно куда-то перебросить, как им эффективно распоряжаться или прибыльно приватизировать, убрать стариков и поставить некомпетентных молодых директоров. Проявите заинтересованность в конечном результате, а не в самом процессе. А у нас сейчас, к величайшему сожалению, все по Кафке — процесс ради процесса.
Беседовала Венера Галеева,
"Фонтанка.ру"


















