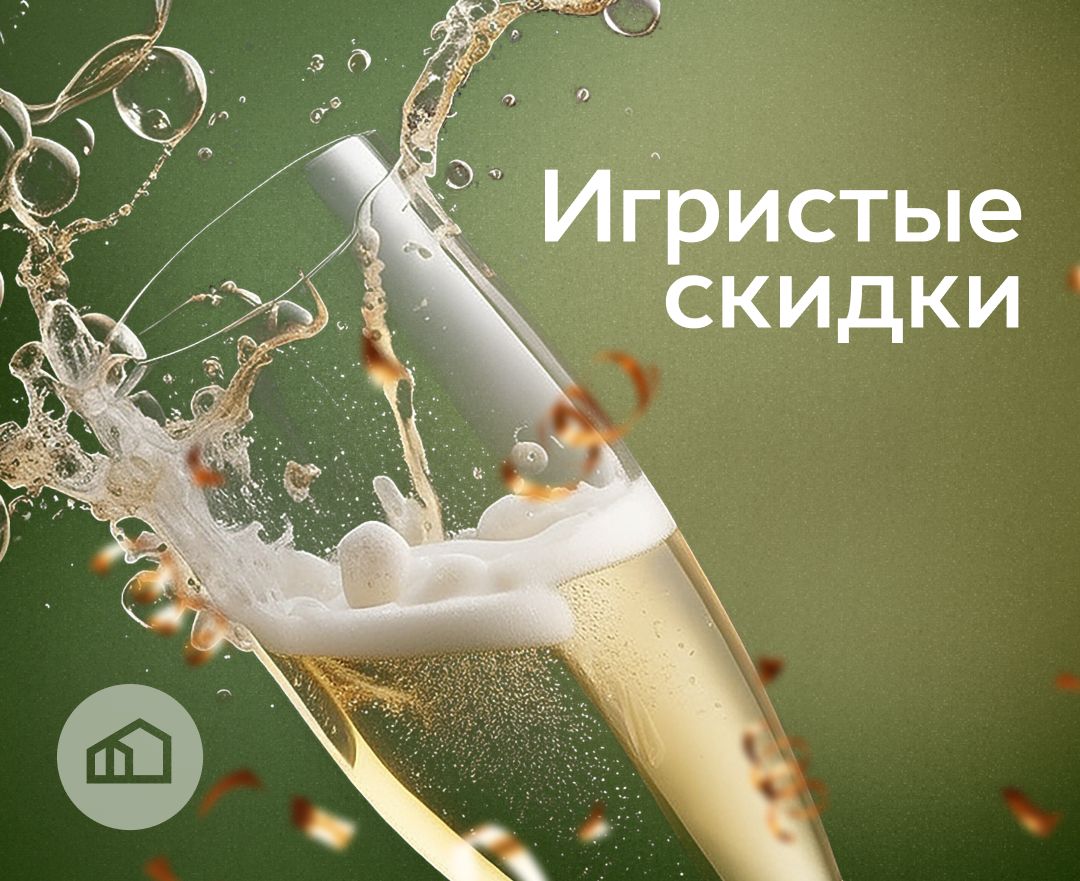В Мраморном дворце Русского музея вчера открылась выставка Вильяма Бруя. Мрачные молчаливые отшельники, обитающие в мире своих фантазий, которые они потом выплескивают на холсты и бумагу, - примерно такими представляют многие из нас художников. И очень часто эти расхожие представления оправдываются. Вильям Петрович Бруй - полная противоположность этому образу.
Яркий персонаж международной богемы, живущий много лет между Парижем и Нью-Йорком, любимец таких замечательных женщин, как леди Абди и любовь Маяковского Татьяна Яковлева, друг Фани Ардан и ныне покойной Натальи Медведевой, чей муж Эдуард Лимонов вывел его в своем романе «Укрощение тигра в Париже» в образе отрицательного персонажа художника Генри. Ныне он остепенился, живет на вилле в Нормандии, где среди природы, глядя на мирно пасущихся коров, работает над серией полотен «Вещества-существа».
Несколько работ из этой серии художник показывает на своей ретроспективной выставке в Мраморном дворце. Это очень яркие и красивые по цвету работы, напоминающие об изысканных средневековых гобеленах. На ярком розоватом, бирюзовом, пурпурном или лиловом фоне «копошатся» какие-то странные сущности. Среди привезенных - монументальные абстрактные полотна из цикла «Unified Field» («Неизвестное поле»). На зрителя словно смотрит космическое небо. И если смотришь долго, таинственная бездна затягивает.
Одна из самых интересных серий Вильяма Бруя - «Тампли» («Храмы»). Человек, склонный к духовным исканиям, мистике, изучающий каббалу, Бруй задумал серию абстрактных полотен после путешествия в Иерусалим. Там, прикоснувшись к древней земле, что хранит присутствие древних идолов и нынешнего бога, он решил воссоздать разрушенный иерусалимский храм. Хотя бы в метафизическом пространстве.
…Когда в выставочном зале Мраморного дворца появился художник, показалось, что материализовался чуточку постаревший Джонни Депп из «Пиратов Карибского моря».
Фиолетовая шляпа с широкими полями, щегольский пиджак такого же цвета, на шелковой подкладке, бирюзовый шарф, а ботинки - черно-белые, как зебра. Но и это еще не все - седые бакенбарды сплетены в косицы и закручены. Почти, как усы Сальвадора Дали, еще недавно казавшиеся непревзойденными.
Вильям Петрович ответил на вопросы «Фонтанки».
- Почему Вы занимаетесь абстракцией?
- Это интересно и азартно. Моя цель - заставить других включить фантазию! Без образа нет вещи никакой и не понять нам мудрости такой!
…Я заготовила умные вопросы, например, что его привлекает в абстрактном экпрессионизме, а что - в геометрической абстракции. Но, засмотревшись на его светлую улыбку и лукавые глаза, сияющие из-под широких полей фиолетовой шляпы, неожиданно для самой себя стала спрашивать совсем про другое:
- Вильям, Вы были одним из первых стиляг в Ленинграде. Шокировали своим внешним видом окружающих в те годы, когда, судя по фильму «Стиляги», выделяться из толпы было по-настоящему опасно…
- Я не стремился быть стилягой, но я не мог одеваться иначе. Мама у меня была портнихой. Я вырос в доме, где постоянно обитали красивые девушки и дамы, которых мама обшивала, и меня часто звали оценить модель, советовались, как лучше.
- А Вам мама шила?
- Да, я носил одежду из тех же тканей, из которых она шила дамам вечерние наряды. Мне было лет пять, и уже тогда был одет не так, как все! Я привык к этому.
- Расскажите историю про Ваш свитер, связанный из веревок!
- Я стремился тогда к одежде, которая была бы не просто одеждой, а произведением искусства, частью артистического стиля жизни. И связал себе свитер из веревок, ходил в нем по Невскому. Ну и, конечно, меня забрали дружинники, отвели в какой-то их пункт охраны общественного порядка у кафе «Север». Они разрезали мой свитер, причем, я видел, что им самим жаль портить такую вещь! Я никогда не был примерным мальчиком. Меня из школы исключали не раз, я второй класс несколько лет заканчивал. Меня били в школе. Потому что я был не такой, как все, вечно мозолил глаза.
- А когда оказались на Западе, почувствовали себя свободнее?
- Да я везде чувствовал себя свободно. Всегда меня окружали интереснейшие люди, которые почему-то выделяли меня, хорошо ко мне относились. В России мне очень много дало общение с замечательными художницами, участницами русского авангарда Верой Матюх, Александрой Магарил, Гертой Неменовой. И в Париже и в Нью-Йорке замечательные девушки разного возраста во мне души не чаяли. С леди Абди у нас была любовь! Платоническая любовь, вы не верите, что есть и такая?!
- У художников, возможно.
- Я ходил за ней как пришитый. Она меня со всеми знакомила. Ее звали Ия Ге, она была внучкой знаменитого русского художника Николая Ге. Водила меня по всем тусовкам. Я ей многим обязан и никогда не забуду. Я к ней направил потом Сашу Васильева, историка костюма и моды, коллекционера. Она ему много чего интересного рассказала о русской эмиграции.
- А Татьяна Яковлева, любовь Маяковского? Которой он написал: «Я все равно тебя когда-нибудь возьму - одну или вдвоем с Парижем!» Когда Вы с ней познакомились, она была уже в возрасте - за шестьдесят. Но уцелело в ней что-то, что заставило Маяковского потерять голову?
- Она была такая - дама при погонах! В том смысле, что властная и могущественная, все же жена всесильного Алекса Либермана, художественного директора журнала «Вог», диктовавшего моду всему миру. А Маяковский, думаю, в ней ценил элегантность, умение чувствовать себя в высшем обществе естественно и свободно. Возможно, хотел с ее помощью попасть туда.
- Вы подарили Иосифу Бродскому гравюру «Греческая церковь».
- Когда ее взорвали, Бродский написал чудесное стихотворение, а я сделал гравюру сухой иглой, по металлу. Он ее любил…
- Вы не забыли русский язык. И Ваш русский язык даже лучше звучит, чем тот, на котором говорят современные интеллигентные люди в России.
- Если вы общаетесь с петербуржцами, аристократами, с которыми общался я в эмиграции, вы его никогда не сможете забыть. Но я быстро учусь и могу говорить и с молодыми людьми на понятном им языке. Например, знаю, как показывать кавычки с помощью жестов.
- Правда, что Вы открыли салон, когда вам было 14 лет и стали зарабатывать как художник?
- Мне было даже 13. Но вышло все случайно. Пришла однажды приятная старушка -соседка сверху, принесла фотографию сына, погибшего на войне. И попросила моего брата Натана увеличить ее. А я должен был отретушировать. Но не получилось. И тогда я решил нарисовать по фотографии портрет заново. Через несколько дней пришла ее дочка и вручила мне сверток, в котором были сторублевки. А потом люди пошли. Кому-то хотелось портрет любимой кошки, другому - вид Карибского моря… Так я и начал зарабатывать себе на жизнь как художник.
- Каким образом ваши ранние гравюры оказались в коллекции Эрмитажа?
- Это дивная история! Я уезжал из Петербурга в 70-е годы. И все свои гравюры отдал в библиотеку Эрмитажа. Подарил - штук 50. А когда уехал, в Эрмитаже забеспокоились—как это - подарок, от эмигранта. И гравюры вернули моей маме. Через 25 лет я приехал в Петербург. Живу неделю, вдруг телефонный звонок. Из Эрмитажа звонит Владимир Суслов, бывший тогда замдиректора по науке. И просит отдать гравюры, которые я когда-то уже подарил музею. Я, конечно, собрал свои работы и побежал в Эрмитаж, где меня принял сам Борис Борисович Пиотровский. Так и остались мои гравюры в коллекции Эрмитажа, что для любого художника - честь. Почему меня этот случай поразил? Да потому что феноменально, как люди могут поменяться за 25 лет! Или не люди—обстоятельства, в которых они живут. И все становится таким, каким должно быть.
Зинаида Арсеньева, «Фонтанка.ру»