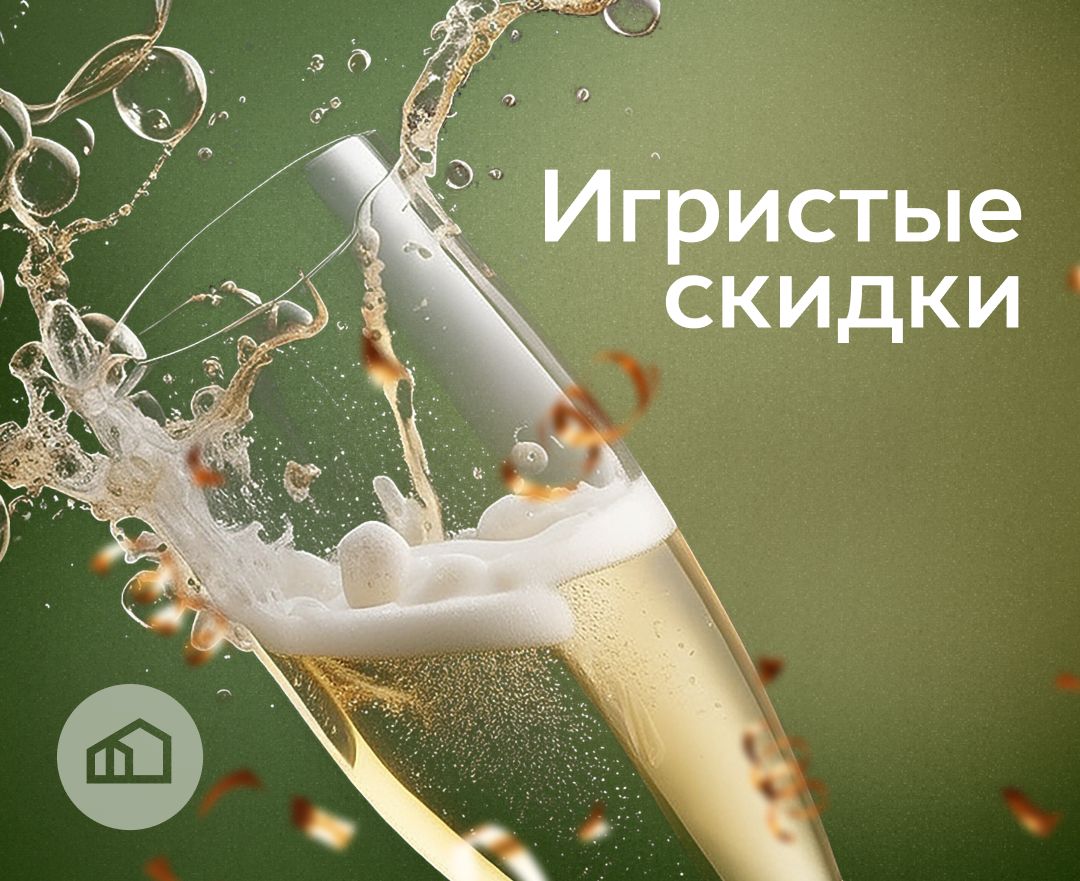Академик Дмитрий Лихачев, кажется, становится достоянием «глянцевой культуры». В год своего столетия он вернулся к нам не просто по-петербургски подтянутым и аккуратным, каким его запомнили многие, а каким-то неестественно правильным и застегнутым на все пуговицы. Это словно уже и не Лихачев, а какая-то восковая персона, взятая напрокат из музея. От имени этой персоны во всех российских школах проводятся уроки патриотизма, на него ссылаются с высоких трибун. Между тем мы помним, что почет и уважение не всегда сопутствовали Дмитрию Лихачеву. И не только власть виновата в этом.
В среде ленинградской интеллигенции он даже некоторое время, говорят, считался «нерукопожатным» - потому что вернулся оттуда, откуда возвращались немногие. Потом Дмитрия Сергеевича недолюбливали за то, что из лагерной пыли он поднялся в академики. Зато теперь его можно любить от всей души: теперь он мертвый, а значит, удобный.
Думается, знай Дмитрий Сергеевич об этом, он бы первым сошел с постамента. Потому что учил он совсем другому. В частности, тому, как выжить в этой стране, и не просто выжить, а с честью дожить до 93 лет.
Философия выживания
Человеческая жизнь хрупка и, по сути, случайна – ХХ век научил нас этому, как никакой другой век. Жизнь может отнять кто угодно: государство, революция, война, террор или просто недобрый уличный прохожий. Жизнь можно положить на какой-нибудь алтарь, ее можно пропить, проиграть в карты, потерять за компанию или вообще «вернуть билет» Творцу, просунув голову в петлю или встав под пистолет.
«Ты жив! Добычей рыб и коршунов не стал!» - когда-то приветствовали друг друга древние греки, возвращаясь из странствий и военных походов. В ХХ столетии еще большим чудом стало повстречать человека, вышедшего живым из странствий этого века.
Академик Дмитрий Лихачев был одним из тех немногих русских интеллигентов, кто не стал добычей ни коршунов, ни воронья – а ведь им много было работы в те годы. Лихачев мог быть расстрелянным на Соловках, мог умереть от голода в блокаду, погибнуть от случайной пули или бомбежки, быть арестованным в 50-е в разгар борьбы с «космополитами». В конце концов, Дмитрия Сергеевича просто могла доконать язва желудка – болезнь, преследовавшая его большую часть жизни. Но он уцелел и вернулся к своим древнерусским сказаниям, к тишине библиотек и кабинетов, к уюту петербургской квартиры. Что его сохранило: судьба, Бог? В своих воспоминаниях Лихачев дает определенный, хотя и довольно необычный ответ: выжить ему помогла философия.
Философию, которая помогает выжить, вполне уместно причислить к философии жизни, с той поправкой, что, в отличие от европейского экзистенциализма, она формировалась не в европейских интеллектуальных салонах, а в русских лагерях и тюрьмах. Это был русский экзистенциализм – не модная философия жизни, а насущная философия выживания. В ХХ столетии русская интеллигенция, не бежавшая за границу, на самом страшном опыте постигала азы этой премудрости: те, кто не усваивал уроков, погибали. Те, кто выживал, были уже совершенно другими, чем их мягкие, манерные, грассирующие предшественники – приват-доценты, поэты-декаденты, профессура, доктора, инженеры, офицеры. Они не были лучше погибших, но они, в отличие от них, знали о жизни какую-то важную тайну, исповедовали какую-то религию жизни (точнее всех об этом сказал Пастернак: «...сестра моя - жизнь»), далекую, впрочем, от беспечного эпикурейства.
Государство мертвых душ
В России жизнь никогда не считалась самостоятельной ценностью: ее охотно приносили в жертву по разным пустякам – стрелялись из-за карточного долга, гибли во славу царя и Отечества или за дело революции. Человеческими костями мостили не только улицы Петербурга, они изначально заложены в фундамент российской государственности. Поэтому выжить в бешеной круговерти российской истории необыкновенно трудно. Но это еще полбеды – выжить считается делом стыдным, зазорным и непочетным. Страна, как известно, охотно чествует своих мертвецов и с подозрением относится к живым.
Подозрительны все, кто выжили в лихолетье, – чиновникам приятнее лицезреть их под гранитными плитами с вечным огнем, чем в живой очереди за льготами и пенсиями. Подозрительны все удачливые (так называемые «везунчики»), которые умудряются выйти сухими из воды, - наверняка они приспособленцы, карьеристы и негодяи (кто же еще может выжить в подлой российской действительности – только подлец, то есть тот, кому эта действительность соприродна). Все, что сопротивляется, вызывает настороженность и раздражение. Все, что затаилось, притворилось спящим или умершим, – чувство удовлетворения и уверенности в будущем.
Будем откровенны; в выработке именно такого отношения к жизни виновато не только «циничное и кровожадное государство», но и сама русская интеллигенция. В ее среде всегда культивировалось более трепетное отношение к смерти, нежели к жизни. Как романтично считается умереть рано, на самом взлете своего дарования, непонятым, непризнанным! Культ ранней смерти проходит сквозной нитью и через золотой век русской культуры, и через серебряный, и даже через соцреализм и контркультуру советских оттепелей.
Семью Лихачева модные веяния декаданса практически не затронули, но они носились в воздухе, они же были тем, от чего отталкивался и на противопоставлении с чем возникал русский экзистенциализм. Люди, которые страстно хотели умереть, сидели в ночных кафе или ютились по явочным квартирам, читали друг другу безнадежные стихи или шептались, как заговорщики, - они жили в своем ночном, наполненном призраками мире, который до определенного времени почти не пересекался с дневным миром.
Днем по столице с веселым треньканьем носились трамваи, прогуливались особой петербургской походкой дамы «эпохи модерна», играли во дворах шарманщики, гимназисты в распахнутых шинелях спешили домой – город был уютным, с налаженным, хотя и по-столичному суматошным укладом. Мир, по воспоминаниям Лихачева, был разноцветным, в отличие от ночного, серо-черного, который очень скоро пришел ему на смену.
Годы 1917-й – 1950-е запомнились Лихачеву своими темными и скучными красками. Исчезли дворники и городовые, медные ручки подъездов собрали на металлолом, дома красились однообразно, «люди ходили оборванные и во всем старом, хотя бы и имели новое, но новое носить было опасно – как бы не приняли за буржуев». Многовековая жажда смерти, которую вынашивала русская интеллигенция, была удовлетворена.
Самосознание интеллигенции начало меняться только к 20-30-м годам ХХ века. Эстетику смерти, идею жизни как общественной жертвы практически полностью ассимилировало советское государство. Вне этого идеологического поля осталась лишь жизнь как таковая, ее тихое, комнатное течение, то, что с высоких трибун гневно именовалось мещанством и обывательщиной. Именно это, как ни странно, и стало питательной средой русского экзистенциализма. В Париже и Берлине, Ленинграде и Москве в ненадолго воцарившейся после войн и революций тишине немногие люди вдруг снова услышали, как идут дожди, как дети играют во дворе, как в ресторанчиках по вечерам звучит фокстрот или джаз.
Бунт против бунта
Стремление жить, влюбленность в жизнь – это уже почти бунт в рамках той «культуры смерти», которая сложилась в России к началу прошлого столетия. Он стал возможен лишь тогда, когда другой бунт, который русская интеллигенция вынашивала не одно столетие, стал явью, когда страхи, как писал Борис Пастернак, стали по-настоящему страшны. Вот тогда на смену классическому «бунтующему человеку» явился совершенно новый русский тип - человек, бунтующий против бунта, - во имя всего нормального и человечески понятного. Этот человек и стал персонажем русского экзистенциализма.
Чему же научил русскую интеллигенцию ХХ век? Поначалу возвышенные и презирающие опасность русские люди тысячами гибли в революциях и гражданских войнах. Отрезвление пришло лишь по окончании первой кровавой революционной пятилетки. Вчерашние борцы революции и рыцари «белого дела» вдруг остепенились, разъехались по эмиграциям или спрятались по семьям и частным квартирам. При этом не все банально струсили, некоторые ушли в «тайную свободу», осознав жестокий внешний мир как иллюзорный, как майю. Что же в таком случае осталось для них действительным? Действительным были лицо любимой, смех ребенка, природа, поэзия, наука. В годы новой войны и разрухи совсем реальным и близким был Бог и его небесное воинство (Лихачев писал об этом в главе о блокаде: «Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели хорошие»). Государство с его армией, спецслужбами, карательным аппаратом обернулось сном, затянувшимся кошмаром, от которого просыпались, просто взглянув в глаза любимой женщины.
Это был не животный страх за жизнь, вернее, не только он. Те, кто цеплялся за жизнь любой ценой – ценой совести и предательства, - погибали. Те, кто называл жизнь «сестрой», кто рассматривал ее как дар Божий, как чудо, – чудом и выживали.
Русский экзистенциализм - это модель поведения зимнего человека, скрытого в своем коконе, в котором все дерзкое, гусарское, агрессивно-деятельное уснуло. Долгой исторической зимой люди закрываются, уходят в себя, как уходит в себя природа с наступлением ноября, чтобы донести заключенный в ней дар жизни до будущей весны.
У людей ХХ века были все основания воспринимать Россию как «вечную мерзлоту» - страну, в которой никогда не бывает весны, а случаются лишь короткие оттепели. («Я с сердцем ни разу до мая не дожили, а в прожитой жизни лишь сотый апрель есть» – писал «зимний» поэт Маяковский.) Вечная мерзлота плотной ледяной шапкой простирается над «одной шестой суши». В сущности, Россия – такой же не оттаявший материк, как Антарктида, только вечный лед ее – иноприродного, трансфизического свойства, он сковывает духовные силы народа и диктует российскому государству авторитарный и безжалостный стиль его правления.
Осенние настроения начинают преобладать в русской культуре начиная с конца XVIII - начала ХIХ века. Державин, Батюшков, Карамзин – уже осенние люди, они любят грусть, одиночество, опавшую листву в аллеях, жар изразцовых печей в усадьбах. Однако родоначальником моды на осень, бесспорно, следует считать Пушкина: он первым в нашей памяти связал золотой век с золотой осенью, а образ поколения – с уютным вечером в дворянской усадьбе. Но к концу пушкинского столетия вечера становятся все более темными и холодными, и вот уже к ХХ веку по всей России мечутся ледяные ветра и метели, мелькают снежные маски. Осень переходит в зиму, вечер – в ночь, золотой век – в серебряный. Снег поначалу возникает в стихах Блока, затем у Пастернака («Мело, мело по всей земле»). Снег идет у Булгакова в «Собачьем сердце» и в «Белой гвардии». Россия засыпает под ледяным панцирем, над ней опускается непроницаемый железный занавес.
«Дневная эпоха сменилась ночной, люди не спали ночами, - пишет в воспоминаниях Лихачев. - Люди жили в ожидании, что перед их окнами вот-вот возникнет и замолкнет шум мотора автомобиля, и в дверях квартиры появится «железный» следователь в сопровождении бледных от ужаса понятых...»
Формула судьбы у Лихачева
Номер камеры (в ДПЗ на Шпалерной улице), в которую Дмитрия Лихачева заключили в 1929 году, сразу же после ареста, был 273: «градус космического холода», как он сам отмечает в воспоминаниях. Впечатление пронизывающего холода – первое и по прибытии на Соловки. В отрывочных записях, которые он вел в лагере, сохранились такие строчки: «Космический холод – форпост человечества. Звезды кажутся ближе, и завесы северных сияний чуть приоткрываются над тайной Создания, чтобы вселить в души людей смертельный холод, пустоту и ужас перед громадностью мироздания».
От этого космического сквозняка было не спрятаться под «диагональю детского одеяла», которым родители вместе с другими вещами снабдили Лихачева перед этапом. Огромному холодному космосу надо было противопоставить что-то равновеликое. Лихачев выбирает для этого философию.
«Если время – абсолютная реальность, тогда Раскольников прав, - рассуждает он. - Все забудется, уйдет из жизни, и останется только «осчастливленное» ушедшими в небытие преступлениями человечество». Но «время – это только одна из форм восприятия действительности. Если «времени больше не будет» при конце мира, то его нет как некоего абсолютного начала – и при его возникновении, и при всем его существовании. ...Все прошлое до мельчайших подробностей в многомиллионном существовании еще существует, а будущее в таком же размахе до его апокалиптического конца уже существует. ...Пластинка с записью всего совершившегося и того, что в будущем совершится, существует во вневременной вечности... Время дает возможность прослушать пластинку».
«...Истинное бытие не имеет ни времени, ни пространства. Оно все компактно – едино. Это нечто вроде точки». Прообраз истинного бытия – мельчайшие атомы времени: день, минута. «Я понял следующее: каждый день – подарок Бога. Мне нужно жить насущным днем, быть довольным тем, что я живу еще лишний день. И быть благодарным за каждый день. Поэтому не надо бояться ничего на свете».
«...Концепция времени... сыграла... большую роль... «успокаивающую», способствующую твердости и душевной уравновешенности во всех моих переживаниях, особенно связанных с заключением в тюрьме ДПЗ и на Соловках», - признается Дмитрий Лихачев. Конечно, для того чтобы утешиться идеей относительности времени и вывести из этого формулу бесстрашия (почему не надо бояться ничего на свете), надо было быть Лихачевым. И все же он был не единственным.
«Так я вошел, последний райский гость, под своды рая», - написал Варлам Шаламов незадолго до своей смерти. Эти люди, и Шаламов, и Лихачев, и многие другие из их поколения, заслужили свое право быть «последними райскими гостями». Тем более что лестницу, по которой они поднимались вверх, кажется, снова занесло снегом.
Валерий Береснев
Полный вариант этого текста читайте в газете «Ваш тайный советник» от 27 ноября 2006 года.